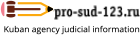Закон и журналистика: территория конфликта
24 сентября 2013 г.Осташевский Александр Васильевич
Осташевский Михаил АлександровичЗакон и журналистика: территория конфликта
Закон и журналистика: территория конфликта / А. В. Осташевский, М. А. Осташевский. – Краснодар : Традиция, 2011. – 322 с.
Содержание Предисловие................................................................................. 4 Концепт Закон.............................................................................. 9 Концепт Суд............................................................................... 50 Концепты Правда – Истина....................................................... 94 Концепты Правда – Ложь........................................................ 116 Концепт Факт: субъектно-объектные отношения.................. 154 Концепты Честь и Достоинство.............................................. 169 «Зоны риска» журналистского текста.................................... 180 Субстанция события................................................................ 187 Логика и динамика эмоций в тексте........................................ 200 Концепты в системе Текста..................................................... 213 Структура текста..................................................................... 264 Компенсация морального вреда.............................................. 278 Библиографический список..................................................... 305Предисловие
Современное российское право и журналистика уже более двадцати лет назад, после изменения пакета законодательных актов, связанных со СМИ, активно вступили в фазу создания и развития правового поля. До 1990-х гг. взаимоотношения СМИ и социума регулировались исключительно партийно-правительственными постановлениями и в малой доле законами. Корпоративным моральным кодексом был «Моральный кодекс строителя коммунизма», за соблюдением которого следили партийные комитеты и редакторы, поскольку были членами Коммунистической партии и партийных бюро разных уровней. Язык журналистских произведений был сориентирован языком правительственных и партийных постановлений. Выход за пределы синтактики, семантики и прагматики расценивался как покушение на идеологические основы языка (официолекта) советской прессы. Из журналистских жанров привилегией пользовались только очерк, зарисовка, фельетон, которые стояли ближе всех к художественной литературе.
Изменение политической структуры общества повлекло за собой изменение языковых ориентиров и включение в языковой обиход новых знаний традиционных Концептов.
Развитие любого общества всегда происходит во взаимосвязи всех процессов: освоения и закрепления, трансформации и переосмысления социокультурных Концептов, что приводит как к изменению старой, так и к формированию новой культурной, идеологической, политической и языковой традиции. Переоценка старых концептуальных основ и усвоение новых форм (стиля, смысла, Концептов, идеологических формул и т. д.) возможны в современном обществе с развитой инфраструктурой благодаря журналистике. Общество открывает для себя новые смыслы старых форм, и поскольку «истина – дочь времени, а не авторитета» (188, 33), то в сознании социума ломается традиционное, устоявшееся восприятие социокультурных Концептов: Истина, Правда, Ложь, Закон, Общество, Мораль, Честь, Достоинство и т. д. Концепты выходят из рамок того пространства, в которые они были включены предшествующей идеологией.
Базовые Концепты впитали в себя многочисленные социокультурные понятия, т. к. являются знаками знаков языка, культуры, права, философии, психологии, что дает возможность, анализируя базовый Концепт, добиваться раскрытия многих смежных Концептов.
Концептуальное поле для журналистики и права является общим, общими для них являются система, методика исследования объекта, принятия решения, оформления информации, ориентация на общие области – логику, психологию, философию. При незначительных расхождениях в методике работы эти общественные институты – право и журналистика – в одинаковой мере интенсивно эксплуатируют социокультурные Концепты. Разница в восприятии Концептов иногда приводит к конфликту двух институтов, поскольку они не берут во внимание пограничные области своих сфер деятельности.
В настоящей работе мы попытались провести наиболее полный анализ общих для юриспруденции и журналистики Концептов, выяснить влияние глубинной структуры Концептов на поверхностную, уровень их воздействия на языковую личность, переход от абстрактной системоструктуры к конкретной системоструктуре текста, его конфликтогенной природе и языковым противоречиям на правовом поле. Делается попытка решения важной проблемы, связанной с различиями в отражении и понимании факта языкового и факта юридического на информационном и правовом полях, определение «зон риска» журналистского текста, который является и субъектом и объектом информации, субъектом и объектом правового поля.
Для авторов представляется актуальным специальное выделение общих для права и журналистики Концептов, демонстрация их исторического происхождения и основ.
Процесс развития постсоветской журналистики и постсоветского права (строительство правового государства, судебная реформа) выявил тенденцию параллельных потоков, в которых точки соприкосновения становятся точками конфликта. Пространство существования языкового знака, текстовое поле права элиминирует богатство естественного языка журналистики, обладающего значительным интегративным потенциалом. Исторический анализ Концептов дает возможность сделать вывод об их безусловном влиянии на формирование журналистских текстов и текстов судебных решений, где языковой личностью являются не только журналист и его правовые оппоненты, но и судья как функциональная сторона при анализе текста.
Системное описание значимых Концептов с использованием примеров из современных журналистских текстов и судебных дел дало возможность увидеть общее и различное в прошлом и настоящем, проследить эволюцию развития и наполнения указанных в работе Концептов, возрождения и зарождения традиций в журналистике и праве. Текст как языковое, информационное событие включает в себя «зоны риска», сам являясь при этом «зоной риска» для журналиста и судьи как языковых личностей, допускающих погрешности в оценке события, явления. Ментальное пространство журналистики и ментальное пространство права пересекаются и репрезентируют достоинства и недостатки друг друга, эксплуатируя при этом одни и те же Концепты.
Концепты права и журналистики имеют общую культурную природу. «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, Концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» (238, 40). В одном ряду со словом «концепт» стоит слово «понятие», которые по своей внутренней форме одинаковы. В переводе с латинского conceptus означает «понятие», от глагола concipere – «зачинать»; в русском языке слово «понятие» происходит от древнерусского «понята», «схватить, взять в собственность, взять женщину в жены». В Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля слова «понятие, понимать» объясняются следующим образом: «понимать, понять – постигать умом, познавать, разуметь, уразумевать, обнять смыслом, разумом, находить в чем смысл, видеть причину и последствия. «Понимывать, поять» – взять, у(за)хватить, поймать. – Пойми эту девку, добрая жена будет. Он поял в жены инородку» (96, 286–287).
Проблема понимания, при всей кажущейся легкости, сложна и является объектом изучения логики, философии, языкознания, поскольку «...концепт обычно не поддается детально точной формулировке, более того, она ограничительна по природе своей, и когда концепт формулируют, мы всегда ощущаем, что общий смысл эта формулировка все же полностью не передает» (36, 167). В понятии различают объем и содержание. Объем – это класс предметов, который подпадает под данное понятие, а содержание представляет собой совокупность общих и существенных признаков понятия, соответствующих классу предметов. «В математической логике <...> термином концепт называют лишь содержание понятия; таким образом, термин «концепт» становится синонимичным термину «смысл». В то время как термин «значение» становится синонимичным термину «объем понятия». Говоря проще, значение слова – это тот предмет или те предметы, к которым это слово правильно, в соответствии с нормами данного языка применимо, а концепт это смысл слова. В науке о культуре термин «концепт» употребляется, – когда абстрагируются от культурного содержания, а говорят только о структуре... Так же понимается структура содержания слова и в современном языкознании» (238, 42). Необходимо отметить, что «концепт не всегда объявлен, да и объявленный отнюдь не всегда соответствует семантическому существу текста» (36, 167).
Проблема Концепта наиболее детально разработана Ю. С. Степановым, он сформулировал гипотезу: «концепты существуют по-разному в разных своих слоях, и в этих слоях они по-разному реальны для людей данной культуры.
В основном признаке, в актуальном «активном» слое концепт существует для всех пользующихся данным языком (языком данной культуры) как средство их взаимопонимания и общения.
В дополнительных, «пассивных» признаках своего содержания концепт актуален для некоторых социальных групп.
<...> вопрос о реальности концепта связан с вопросом о его содержании, а последний – с вопросом о методе, каким это содержание устанавливают» (238, 45).
Довольно четко сформулирована суть «понятия» в Большом энциклопедическом словаре «Языкознание»: «Понятие – 1) мысль, обращающая в обобщенной форме предметы и явления действительности посредством фиксации их свойств и отношений; последние (свойства и отношения) выступают в понятии как общие и специфические признаки, соотнесенные с классами предметов и явлений; 2) То же, что грамматическая или семантическая категория, обычно не высшего уровня обобщения, например, понятие двойственного числа, понятие события, понятие неактуального настоящего времени и т. п.; в этом значении стал часто употребляться термин «концепт» (304, 383–384).
Содержание понятия является одной из составляющих, «...содержание – это как бы средство, при помощи которого предмет является представленным. С этой точки зрения опять ясно выступает аналогия <...> между представлением и его языковым знаком, именем... изначальной функцией названия является сообщение о психическом акте, а именно: акте представливания. Посредством этого название вызывает у слушателя значение, психическое содержание (представление); и в силу этого значения название называет предмет» (261, 55).
Журналистика как явление культуры интенсивно эксплуатирует концепты, нередко вкладывая в них новое содержание, ориентируясь на идеологию момента, ситуацию политической выгоды. Журналистика и право во многом сходные отрасли, действуют в одном ментальном пространстве, прикрываются мифом, созданным об этих отраслях.
«Культурные концепты как обычные аналоги философских и этических терминов (добро, зло, истина, творчество, человек, судьба и др.) – ключевые слова метаязыка культуры, имеющиеся в любом языке, актуальные для каждого человека, выступают элементами системы. Согласно А. А. Волкову, культурные концепты играют роль субъектов и предикатов ценностных суждений, являясь универсальными кумуляторами культуры на протяжении всей духовной истории человечества. Структурными элементами выступают внутренние топосы как способы отношений между концептами» (66, 13).
Концепты – доказательство, достоверность, допустимость, достоинство, истина, истец, вина, закон, личность, мысль, мнение, клевета, оскорбление, обстоятельство, обязанность, оценка, нарушение, отношение, право, правда, правосудный, предмет, принцип, престиж, репутация, свидетель, нравственность, мораль, суд, суждение, имя, факт, умаление, честь, убеждение, опровержение и т. д. – общие для журналистики и права. Каждое из этих понятий (Концептов) вызывает четкое или смутное, в зависимости от образовательного уровня адресанта и адресата, представление о них. «С одной стороны, представление – это то, что репрезентирует объект в сознании, используя иную терминологию, представление – это ментальный субститут объекта. С другой же стороны, представление – это то, что конституирует значение названия, акт посредством которого мы придаем этому названию определенный смысл, точное значение, отличное от всех других» (261, 55).
Мир понятий, в основе которых лежат представления, оформленный вербально, необычайно широк, но «при всех различиях в трактовке природы слова так или иначе признается его способность обозначать феномены (вещи) и выражать понимание сути дела (таково претендующее на каноничность определение понятия» (120, 19). Информационно-деятельностный подход в журналистике и правоприменительный в судопроизводстве «позволяет уточнить характер соотношения между значением и смыслом (экстенсионалом и интенсионалом). Как объем и содержание, они находятся в отношении взаимной дополнительности: чем точнее значение, тем неопределеннее смысл, и наоборот. Конкретность значений противостоит абстрактности смыслов, но в то же время они дополняют друг друга в живой речи, когда каждое словоупотребление дает свой баланс обобщенности и наглядности» (120, 18).
Концепт Закон
Начнем с характеристики первого и, на наш взгляд, основополагающего Концепта – Закон. Это в широком смысле слова все нормативно-правовые акты в целом, все установленные государством общеобязательные правила. В собственно юридическом смысле Закон – нормативный акт, принятый высшим представительным органом государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения (например, в порядке референдума) и регулирующий наиболее важные общественные отношения. Закон составляет основу системы права государства.
Как самостоятельный источник права Закон сложился еще в древности и пришел на смену правовому обычаю. «В римском праве Законом считалось специальное и конкретное в правовом отношении выражение суверенной воли римского народа, реализованное через сложившиеся государственные установления. Главным воплощением писаного права римская правовая культура считала Закон – lex. Для признания правового предписания Закона необходимо было, чтобы он исходил от имеющего соответствующие полномочия органа, т. е. так или иначе воплощал бы волю римского народа, и чтобы он был надлежащим образом обнародован. Тайный Закон не мог иметь юридической силы. Закон должен был содержать определенные элементы: 1) введение или указатель обстоятельств издания; 2) vogatio или текст, который мог подразделяться на главки и т. п. и 3) sanatio, где постановлялись последствия нарушения Закона и ответственность нарушителей» (262, 164).
Основы права были заложены в Древнем Риме, право социализировало поведение граждан, формировало отношения. В средневековом обществе давало не только общую, но и детализированную схему поведения. В Средние века и затем в Новое время законодательная база модифицировалась, подстраивалась и надстраивалась в духе времени. Закон, впитав презумпции обычая, стал фиксированным, его нормы становились неизменными, надлежало следовать букве Закона, ни в чем от него не отступая. Кодификация норм права давала закону новую природу бытия, независимую от породивших его обстоятельств субстанцию. Отчуждение Закона, независимость приводит к тому, что применение и комментирование Закона становится исключительной монополией, прерогативой суда, государственной власти, но не общества. Обществу дана обязанность подчиняться Закону.
Первые законы появились во времена правления Урукагины царя Лагаша, что в Междуречье, в 2360 году до н.э. Первым почти полным сборником законов является кодекс царя Хаммурапи (1790–1750 гг. до н. э.). В кодексе впервые говорится о мотивах поведения лица, виновного в правонарушении.
Законы не могут охватить всего многообразия жизни, поэтому важно не количество, а оптимальное их число. «Еще во II веке до н. э. римский историк Тацит сказал, что наибольшее количество законов обычно бывает в «наиболее испорченном государстве» (193, 28). Оптимальное число законов определяется существующим в обществе правосознанием, соотнесением личных и государственных интересов.
Слова в Законе приобретают символичность и в качестве символа становятся видимым образом незримых, абстрактных сущностей. «Символ в средневековом его понимании не простая условность, но обладает огромным значением и исполнен глубочайшего смысла» (82, 265).
«<...>Закон – один из случаев явления неделимого... Нельзя, скажем, в одном месте какую-то истину запретить или считать ее несущественной, не разрушив при этом весь процесс производства истины в других местах. Если почему-либо считается несущественным или запрещается говорить «дважды два – четыре», то в силу неделимости истина рушится. Например, для религиозного человека истина «Бог есть» – самая близкая душе. Поэтому внутри нее не может быть иерархии, здесь нет более превосходного, чем превосходное <...> И это же относится к законам нашей социальной жизни – нарушение же в одном месте влечет за собой неизбежные последствия во всех других местах. Причем такое нарушение происходит тогда, когда мы пытаемся соблюдать закон средствами, не заключенными в самом законе» (167, 124).
В человеческом мире символы – это абстракции (от лат. abstractio – удаление, отвлечение) того, что в высокой степени отвлечено, удалено от людей, причем, не в малой мере ими самими. Это относится к понятиям права и судебной практики. «Без их отчужденности от конкретных ситуаций и людей не могло бы быть общей объективной рамки оценки и суждения, пространства непредвзятости и заинтересованности. Здесь возможна конвенционализация и даже терминологизация» (120, 23). Закон выступает в обществе в виде рафинированной абстракции, совокупности символов. «Символ, по мысли Гуго из Сен-Виктора (XII в.), представляет собой соединение видимых форм для демонстрации вещей невидимых. Но «демонстрация», о которой говорит Гуго, собственно, не доказательство, не объяснение, и вообще не сопоставление и раскрытие понятий, а непосредственное выражение реальности, которую разумом охватить невозможно. Следовательно, символизм в Средние века отнюдь не представлял собой праздную игру ума. Прежде всего, как подчеркивает П. Бициями, вещи «не просто могут служить символами, не мы вкладываем в них символическое содержание; они суть символы, и задача познающего субъекта сводится к раскрытию их истинного значения». Символ, следовательно, не субъективен, а объективен, общезначим» (81, 266). Закон регламентирует все стороны жизни, определяет поведение индивида, содержит в себе строгие предписания, а отсюда «...каждое важное жизненное отправление человека, затрагивающее интересы группы, сопровождается исполнением специальных обрядов, произнесением формул, отклонения от которых аннулирует весь акт, делает его недействительным» (81, 145), к тому же в ряде случаев и оскорбительным. История дает немало таких примеров.
Нашей точке зрения соответствует мнение о Законе А. А. Брудного: «Закон именно в силу того, что он общезначим, обладает некоторым особым социально-психологическим качеством. Оно заключается в том, что закон принципиально доступен пониманию тех, кого он касается. Когда формируется общепризнанный правовой принцип «незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение», неявным образом вводится кардинальное допущение, что закон должен быть доступен пониманию граждан. Ибо знание закона есть знание специфическое, непосредственно воздействующее на поступки людей. Для того, чтобы оно обрело это качество, человек должен не только обладать данным знанием, но и квалифицировать в соответствии с ним свои поступки: воздерживаться от одних и совершать другие. В этом и находит конкретное выражение понимание закона. Но отсюда прямо следует, что сложность законодательства в целом и отдельных законодательных актов – это сложность особого рода. Она отлична от сложности геометрических теорем и физических теорий. Закон потенциально общепонятен, и в этом залог его функционирования в обществе, хотя сложность юридических казусов вошла в поговорку, а анализ тех или иных регулируемых законных ситуаций и коллизий может требовать участия значительного числа специалистов, использования огромной по объему информации, перебора многообразных вариантов понимания, сопоставления различающихся и даже исключающих друг друга гипотетических версий и т. д.» (36, 134).
На переговорах персов с римлянами последние обвинили Хосроя, который должен был стать приемным сыном византийского императора Юстина (VI в. н. э.), в совершении обряда усыновления по варварским (т. е. персидским) обычаям, что сильно обидело персов. Хосрой решил отомстить римлянам. Он был третьим и самым любимым сыном персидского царя Кавада, который хотел ему оставить престол. Но это было запрещено по закону, т. к. были еще два старших сына, из которых первого Кавад не любил, а второй был одноглазый, что тоже лишало его прав на царский трон. Кавад договаривается с византийским императором об усыновлении Хосроя, за что отказывается от всех притязаний Сасанидского государства по отношению к Византии. Усыновление должно было произойти по римским законам, но Юстина уговорили, чтобы усыновление происходило не по записям (римское право), а оружием, как водится в варваров. Этот факт и лег в основу оскорбления Хосроя и отмены актов усыновления (308, 183–184).
Произнесение формул, строгое следование процессуальным нормам, отклонение от которых аннулирует весь акт судебного решения, есть процедура, дошедшая до сегодняшнего дня в судопроизводстве. В средневековом обществе реальное, а следовательно, законное существование признавалось только за тем объектом или субъектом, которые имели правовой статус. «Город, конституируясь, спешил обрести определенные права; цех, университет и любая иная корпорация официально существовали с момента принятия устава; сельские коммуны обзаводились особыми грамотами, гарантировавшими их статус; сеньоры, обладавшие судебной или военной властью, заботились о том, чтобы эта власть была оформлена в виде иммунитетных полномочий, пожалованных государем, – специальные правовые уложения вырабатывались для любого средневекового института. Без санкции права общественное отношение не считалось действительным» (82, 154–155). Это положение не только сохранилось, но и получило развитие в современном обществе России. Иммунитентные полномочия стали системой иерархизации общества, кодом для «своих» и «чужих», последние тоже свои, но из другой социальной рамки. Социальный код, а «код – это модель, являющаяся результатом ряда условных упрощений», производимых ради того, чтобы обеспечить возможность передачи тех или иных сообщений (301, 45), «подпитывается» из Закона.
Слово «закон» во многих словарях определяется примерно одинаково – как «постановление государственной власти».
Писаному закону свойственно ограничивать человеческую свободу и тем самым «вызывать у трансгрессивной личности вольное или невольное желание нарушить его <...> на заре христианства апостол Павел скажет: «Где нет закона, там нет преступления». Соответственно, где есть закон, там есть и преступления. Где есть право, там непременно существуют и правонарушения. Эти противоположности, несмотря на их полярность, неотрывны друг от друга» (44, 11).
Концепт Закон в русской духовной культуре и ментальности имеет двойственную, противоречивую природу. У В. Даля понятие Закон определено как «предел, постановленный свободе воли или действий; неминучее начало, основание; правило, постановление высшей власти. Закон Божий, откровение, составляющее сущность веры; закон христианский, христианская вера. Законы природы или естественный закон, которому неизбежно следует вся вещественная природа. Законы гражданские, установленные гражданской, государственной властью, для обеспечения быта граждан, противопоставляются законам духовным, т. е. относящимся до дел веры, или же до духовного мира, духовной жизни, противопоставляются также законам военным, уголовным». (96, 588). Концепт Закон имеет три основных значения: 1) закон божеский (связан с нравственностью, моралью; 2) закон юридический; 3) закон природы (т. е. науки).
В русской культуре закон мыслился как предел, за которым существует иное пространство, иная сфера жизни. Закон или рукотворный предел есть искусственное препятствие, которому внешне нужно подчиняться, ибо нарушение его чревато наказанием, но внутренне личность противится этому пределу. «Закон <...> не высшая «категория», которой подчинено все лежащее в данной сфере, а лишь некоторая граница внутри сферы более широкой. Взгляд «с той стороны» этого предела, стремление «взглянуть и оттуда», неподчинение пределу (не обязательно «преступные») – <...> основная черта этого русского концепта. В понятии «закона юридического» она проступает как понятие «закона совести», отличного от закона юридического; либо как понятие «харизматической личности», за которой следовать более нравственно, чем следовать юридическому закону; либо, наконец, как особое русское отношение к преступникам как к «несчастным» (238, 428).
Интересны в этом плане замечания, которые высказал Ф. Гиренок в книге «Пато-логия русского ума» (Картография дословности), в главе «Закон». «Закон в России не сочиняется. Если бы он сочинялся, то он падал бы как снег на голову. Падал и ломал уже заведенный порядок отношений. А у нас не падает. А если он падает, то это не по-русски. А по-европейски. Ведь для того, чтобы сочинить закон, нужны юристы. Нужны законодатели, то есть нужна машина, которая пишет законы. Мы этой машины не изобретали. Она нам не нужна. У нас законы вырастают, как деревья.
Если законы сочиняются, то в них важна форма. Соблюдение формы не зависит от того, что у тебя за душой. Она делает тебя независимым от твоих внутренних состояний. Форма выше человека. <...> Русский человек признает за проблему только то, что с ним происходит вовне. Внешние проблемы для нас тяжелы. Мы от них уходим внутрь. В себя. Мы их разрешаем внутренним возвышением над собой. Поэтому-то нам нужно время. И внутренний мир, без которого мы беззащитны. Запад доволен своим внутренним состоянием, ибо он вытаскивает людей в мир формы. <...> Русский человек недоволен собой и своим нравственным состоянием. У нас нет формы, за которую можно было бы держаться. Нас держит чувство причастности к целому, которое выше нас. Но именно поэтому наш быт требует самоотверженности. Подвига самозабвения. А по сочиненным законам самоотверженно жить нельзя. Поэтому законы, придуманные сверху, не могут не противоречить нашему быту. <...>
Русский человек привык иметь дело с законами, складывающимися органически. То есть закон должен проникнуть в народный нрав, в быт, и только потом его можно будет записать на бумагу. В иных случаях его никто выполнять не будет» (86, 106–107).
В русской ментальности Закон представляется независимым от человека – это строй, построение, устав. «В «Повести временных лет» говорится о «строе» и об «уставе земляном», а Русь представлена «поконом языка нашего». И в этом памятнике русской истории покон в качестве основополагающего обычая (закона) и одновременно самой структурой и фактурой политического пространства («по» – над, «кон» – основа, начало).
Этимология слова «Закон» достаточно подробно описана во многих словарях. «Закон – укр. закiн – исповедь, причастие, др.-русс., ст.-слав. закон <...> болг. закон, сербохорв. закон – закон, обычай, вера, словен. zakon, чеш.-словц. zakon, польск. zakon – закон, завет, монашеский орден // Связано с кон, искони, начать, начну. Первоначальное значение – начало, родственно лат. cinaties «подниматься» <...>, лат. vecens «свежий, бодрый, недавний», ирланд. cinim «я возникаю» (273, 75).
Русское слово «закон» происходит от кон – начало, и конец, т. е. граница между концом и началом. В. Даль так описывает слово «кон» – начало, предел, межа; // рубеж, конец; // ряд, порядок, очередь, раз. «Вот откуда пошел кон земли нашей» (96, 154).
Закон выступал в виде связующего звена, создающего систему связей в обществе, регламентирующего поведение и отношения. Выйти за пределы закона значило быть исключенным из общества, стать изгоем. «Жить в праве», «жить по закону» означало жить с людьми, не нарушая принятых норм, поддерживать с ними отношения, основанные на законе.
Квинтэссенцию Закона, на наш взгляд, выразил в свое время К. П. Победоносцев (русский государственный деятель консервативного толка конца XIX – начала XX века, учитель царевича Николая II, многих членов императорской фамилии, обер-прокурор Святейшего Правительственного Синода).
«Закон – с одной стороны правило, а с другой – заповедь, и на этом понятии о заповеди утверждается нравственное сознание о законе. Основным типом закона остается десятисловие: «чти отца своего... не убий... не укради... не завидуй». Независимо от того, что зовется на новом языке санкцией, независимо от кары за нарушение, заповедь имеет ту силу, что она будит совесть в человеке, полагая свыше властное разделение между светом и тьмою, между правдою и неправдою. И вот где, – а не в материальной каре за нарушение, – основная, непререкаемая санкция закона – в том, что нарушение заповеди немедленно обличается в душе у нарушителя – его совестью. Кары материальной можно избегнуть, кара материальная может пасть иногда, без меры или свыше меры, на невиновного по несовершенству человеческого правосудия, – а от этой внутренней кары никто не избавлен. <...> мы громоздим без числа и без меры необъятное здание законодательства, упражняемся непрестанно в изобретении правил, форм и формул всякого рода. Строим все это во имя свободы и прав человечества, а до того уже дошло, что человеку двинуться некуда от сплетения всех этих правил и форм, отовсюду связывающих, отовсюду угрожающих, во имя гарантий свободы. <...> Посреди бесконечного множества постановлений и правил, в коем путается мысль и составителей и исполнителей, – известная фикция, – что неведением закона никто отговариваться не может, – получает чудовищное значение. <...> громадная сеть закона продолжает плестись и сплетается в паутину, сжимая и совершенствуя свои клеточки. <...> Масса законов как будто сложена вся в громадный амбар, в котором по мере надобности выискивают что угодно люди, привыкшие входить в него и с ним разбираться. <...> Если понятие о праве не заглохло в сознании народном, – это объясняется единственною силою предания, обычая, знания и искусства править и судить, преемственно сохраняемого в действии старинных, веками существующих властей и учреждений. Стало быть, кроме закона, хотя и в связи с ним, существует разумная сила и разумная воля, которая действует в применении закона и которой все сознательно повинуются.
<...> Законы становятся сетью не только для граждан, но, что всего важнее, для самих властей, призванных к применению закона, – стесняя для них, множеством ограничительных и противуречивых предписаний, ту свободу рассуждения и решения, которая необходима для разумного действования власти. <...> Нравственное значение закона ослабляется и утрачивается в массе законных статей и определений, нагромождаемых в непрерывной деятельности законодательной машины – в сознании народном получает значение какой-то внешней силы, неведомо зачем ниспадающей и отовсюду связующей и стесняющей отправления народной жизни» (215, 134–137).
В России правовая культура не была общегосударственной и отчасти противостояла культуре семьи, общины. Личность в Законе не получала правового определения. Ценность права не получала самостоятельного значения. Выработался своеобразный сплав религиозного, нравственного, политического и правового сознания. В развитии правосознания сыграло огромную роль православное мировоззрение. «Развитие правосознания на Руси приняло форму «поучений, посланий и молений князей, церковных деятелей и просто образованных людей своего времени, высказывающихся по вопросам права. Уже в летописных памятниках XI–XII вв. можно найти специфическое нравственно-религиозное понимание сущности княжеской власти, соотношения «закона и благодати, вольности и долга, справедливости и правды» (193, 46).
На русское правосознание огромное влияние оказывали и оказывают нормы обычного права. Закон носит внешний характер и применяется формально, а благодать строится на правде, справедливости. Благодатное право противостоит праву несправедливому, неправедному закону. Русская правовая культура тесно соединена с моралью и религией.
«Предел» и «фикция» присущи Концепту Закон (fictio – выдумка, вымысел). «Предел» можно преодолеть, обойти («закон – что столб: перелезть нельзя, а обойти можно»), если он не совпадает с нравственными установками, нарушает привычный уклад жизни, юридическая фикция, как «выдумка», является своего рода «ложью», «необходимой для примирения принципа и справедливости, когда они противостоят друг другу, общей нормы и исключения» (289, 125). «Суть юридической фикции, как бы ее не интерпретировали, в том, чтобы через очевидную «неправду» обеспечить те частные и общие интересы, без удовлетворения которых ставится под вопрос существование той или иной систем институтов или одного из них» (289, 125).
Инструментальная функция Закона предполагает оперирование образами, копиями вещи, события, т. е. симулякрами. Представление о симулякре введено было Эпикуром (simulacua – копия, образ вещи). Образами заполнен мир, сознание человека заполнено образами, представлениями, и если бы не было симулякров мы бы ничего не знали о мире. Симулякр противостоит мифу, который тяготеет к Закону. Миф «буквы и духа Закона», «Юрист, держась буквы и духа законов, создает несовпадающие модели как в теории, так и на практике, и то, что принимается за лучшее сегодня, может быть подвергнуто ревизии завтра. Несовпадающие теории соседствуют или ведут борьбу друг с другом. И никто, конечно, не может заранее предвидеть исход того или иного сложного судебного дела, когда решение принимается по свободному волеизъявлению судей» (289, 126). «Свободное волеизъявление судей» есть не что иное, как преодоление «предела» – Закона.
Dura lex, sed 1ех («Суров закон, но это закон») – выражение, ставшее аксиоматичным, таким же, как и «законодатель всегда прав». «Максима «законодатель всегда прав» отражает принципиальную позицию юридического позитивизма. Законодатель прав совсем не потому, что нашел в законе единственно верное и справедливое решение. Правота закона есть правота самой реальности, она тождественна действительности закона. Поскольку закон действителен и подлежит исполнению, он прав в отношении всего, что потенциально или реально ему противоречит. Правопорядок держится на этой формальной правоте закона. Но совершенно ясно, что правота эта условная, имеет в основе своей допущение, в котором можно без конца сомневаться, ибо оно не вытекает строго логически из какой-либо системы эмпирических данных, не является неопровержимым» (267, 17).
Современное учение о праве обращается только к человеческому разуму как к источнику всякого законодательства. Но разве законы, изданные человеком, обязывают других людей поступать сообразно совести потому только, что они изданы человеком? Откуда человек имеет такую силу над совестью других людей? Значит, скажут нам, законы эти обязательны для совести каждого, потому что цель их – благо общества. Его авторитет, величие его задач и требований придают им такую обязательность. Это правда, но не вся. Почему, собственно, благо общества столь властно над совестью человека? Быть может, и это установил разум человека-законодателя? Но разве разум не использует тут лишь некоторую готовность, которая просто заложена в каждом человеке и которая зовется склонностью к общественной жизни? Склонность эта попросту заключена в его природе. Человек-законодатель застает ее в себе, как и в каждом из себе подвластных, и благодаря ей закон принимает и исполняет совесть людей. В этой склонности и готовности содержится уже какой-то элементарный, первоначальный и основной Закон, который каждый нормальный человек осознает, которого слушается, нарушение его считает моральной виной. Собственно, Закон человека-законодателя приобретает моральный смысл лишь потому, что он ложится на почву закона человеческой природы. Без этого Закон повис бы в воздухе, а исполняли бы его лишь по принуждению. Это был бы конец общественной нравственности, да и нравственности вообще. Такое рассуждение можно провести, отправляясь от разных пунктов нравственной жизни человека и общества, например от института брака, института собственности и т. д.
Если есть Закон – есть законодатель. Закон писаный указывает на законодателя-человека; закон неписаный, но заключенный в самой природе человека и мира, – на законодателя, стоящего над человеком. Закон всегда дело разума. Св. Фома Аквинат определяет его как «рассуждение, исходящее от разума и направленное к общему благу, ибо законодатель заботится о плодах» (61, 39).
Русская императрица Екатерина II попыталась в российских условиях реализовать концепцию правовой монархии, в которой бы сочеталось сословное общество с равенством людей перед Законом, впрячь в одну телегу «коня и трепетную лань». «Наказ» Екатерины II предусматривал юридическое просвещение граждан как средство воспитания и преодоления пороков, средство, побуждающее дворян отказаться от самоуправства и самодурства в своих владениях. Но одно дело написать, а другое – исполнять. Здесь к месту цитата из «Кентерберийских рассказов» Д. Чосера: «И не напрасно люди говорят: Кто для других законы составляет, Пусть те законы первым соблюдает» (291, 156).
На Руси сложилась правовая ситуация, когда законы составлялись для других. Представитель властных структур считал Закон инструментом для собственного благополучия, что, впрочем, присутствует до сих пор.
В русле наших исследований о субстанции права, Закона нелишне будет обратить внимание на образ мышления и понимания закона у других народов. В Китае, к примеру, право не мыслится в качестве основы социального строя, не регулирует поведение человека, для этого существует ритуал, а не Закон. В «Шан цзюнь шу» («Книга правителя области Шан») – философско-политическом трактате школы фацзя – «законников», автором которого является государственный деятель Гунсунь Ян, высказаны интересные замечания о действии законов. «Когда правитель издает указы, люди знают, как осуществлять их. Успешное осуществление закона зависит от отношения к нему семьи, чиновники же только применяют его. Это как раз и означает, что суждения о делах выносит семья. Поэтому у того, кто добился владычества [в Поднебесной], решения о наказаниях и наградах покоятся на суждениях людей в душе, а решения об использовании закона покоятся на суждениях семьи» (104, 218). В соответствии с принятой в Китае философией закон, в силу присущей ему абстрактности, не может учесть многообразия бесчисленных жизненных ситуаций. Он (закон) представляет собой по этой причине не добро, а зло. «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться (от наказаний) и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд и он исправится» (104, 143). Книга «Лунь Юй» («Беседы и высказывания») является единственным произведением, в котором собраны и переданы взгляды Кун-цзы (Конфуция), отражающие идею сыновнего почтения к старшим – от семьи до государства.
«Учитель сказал: когда мораль не совершенствуют, изученное не повторяют, услышав о принципах долга, не в состоянии им следовать, не могут исправлять недобрые поступки, я скорблю» (104, 153). <...> «Народ можно заставить повиноваться, но нельзя заставить понимать почему». <...> «Если государство управляется неправильно, то богатство и знатность также вызывают стыд». <...> Если не находишься на службе, нечего думать о государственных делах». <...> Строго требовать того, что тебе причитается – антиобщественно, противоречит добрым нравам» (104, 153). <...> «Благородный муж предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к людям» (104, 167). Задачей правителя являлось осуществление управления страной, народом в соответствии с принципом «ли» (принцип «ли» означает церемонии и религиозные ритуалы, жертвоприношения, связанные с культом предков, и имеет отношение к магическим силам; правильное и пристойное поведение). Порядок в государстве базировался на пяти видах отношений, на базе которых существовало пять образцов поведения. «Невыполнение долга в соответствии с принципом «ли» ведет к социально согласованным санкциям или моральному поучению, включая предупреждение и наказание, с тем, чтобы обеспечить должное поведение в будущем. Аналогичные меры принимаются также и по отношению к непреступным действиям, когда используются саморегулирующиеся процедуры «ли», и предпочтение отдается предотвращению тяжб, а не обращению к закону» (254, 32).
Иное отношение к праву, Закону в мусульманском мире. Здесь нет различия между каноническим и мирским правом (обычаем). В мусульманском мире человек, преступивший Закон, рассматривается как грешник. И как грешник, кроме земного наказания, будет наказан еще и в загробном мире. В рассказе о судье Махди бен Муслима из Кордовы повествуется о том, как должен судить судья: «И приказал он ему принять Книгу Аллаха и сунну его пророка Мухаммада – да благословит его Аллах <...>, который с помощью их света ведет по верному пути. <...> ибо в нем (судействе) заключены жизнь веры, соблюдение прав мусульман, назначение предписаний для тех, кому они обязательны, и дарование справедливости тем, кто ее заслуживает. И поскольку существует надежда, что он у себя в суде, исполняя дела, руководя и вынося решения, будет отдавать предпочтение истине Аллаха – велик он и славен! – будет стремиться приближаться к ней и сближаться с ней» (173, 37). Для судьи важны не дух и буква Закона, а приближение к истине Аллаха, сближение с ней. Вынесение справедливого решения – это награда судье от Аллаха, <...> «требование приводить доказательство – это то, на основе чего судят человека ради истины Аллаха Всевышнего и стремятся воздать ему должное, <...> когда судья возглавляет надзор и наблюдение за этим и рассчитывает при этом на награду Аллаха, то утверждается истина и (исчезает) ложь. Поистине, ложь исчезающа!» (173, 37–38).
Правоприменительная практика исключала поединки, испытания: «приказал он ему выслушивать от свидетелей их свидетельские показания, сообразуясь с их истинностью и правдивостью, и тщательно вникать в них, пока он не исчерпает их все до единого, равно как и рекомендации поручителей о безупречности свидетелей; многократно исследовать и изучать все их дела, <...> не торопиться с вынесением приговора, пока он не изучит доказательства тяжущихся, <...> когда же он до конца познает их и удостоверится в них, пусть не откладывает (вынесение) приговора после того, как он стал ясен, очевиден и бесспорен для него и для тех законоведов, с кем он советуется» (173, 39). Право в мусульманском мире было значительной консервативной силой.
Сравнение Концепта Закон в разных культурах требует сравнения правовых систем. В исторической и юридической науке достаточно полно исследованы греческая и римская правовая системы. Эти же системы легли в основу современного права. Древний Рим – классическая страна классического законодательства, которое можно определить как модель. Модель, нашедшую отражение и в русской законодательной теории и практике.
Право возникает вместе с государством. Оно не может ни возникнуть, ни существовать вне государства: законы издаются государственными органами, которые и призваны обеспечить их исполнение.
Поскольку право и государство суть элементы культуры, то сразу возникает вопрос о правовой традиции, о правовой культуре, о том, «откуда оно есть пошло», когда возникло и кто у кого заимствовал те или иные правовые нормы.
Древнерусское право соответствовало тому типу государства, в котором существовало. Как всякое феодальное право, оно было правом привилегий, т. е. закон прямо предусматривал, что равенства людей, принадлежащих к разным социальным группам, нет и быть не может. Он (Закон) не только не скрывал этого неравенства, но всячески и постоянно его подчеркивал.
Краткая редакция «Русской Правды» была открыта Н. Татищевым в 1738 г. и издана впервые А. Шлецером.
В истории этого юридического памятника есть три этапа: первые 18 статей Краткой Правды – законодательство Ярослава, второй этап – расширение ее сыновьями Ярослава (Правда Ярославичей) и третий этап – Пространная Правда, связанная с именем Владимира Мономаха.
В краткой редакции «Русской Правды» первые семь статей посвящены оскорблению.
Статья 3. «Аще ли кто кого ударить батогом, любо жердью, любо пястью, или чашею, или рогом, или тылеснию, то 12 гривен: аще сего не постигнуть, то платити ему, то ту конець». Статья рассматривает предметы, которыми наносятся побои: батог, жердь, ладонь, чаша, рог, тупая сторона острого предмета.
Причем здесь не имеет значения степень опасности для здоровья потерпевшего, орудия, которым наносятся побои, важен не столько удар, сколько обида, оскорбления, им нанесенные.
Поэтому и ответный удар, то есть месть, должен был сразу следовать за оскорблением.
В случае если обиженный по той или иной причине не мог сразу же отомстить, то обидчик подвергался денежному взысканию в размере 12 гривен. Соотношение денежных единиц в Краткой Правде: 1 гривна = 20 ногат = 25 кун = 50 резан. К примеру, за одну гривну можно было купить корову.
Статья четвертая: «Аще утнет (ударит) мечем, а не вынем его, либо рукоятью, то 12 гривен за обиду» – является логическим продолжением предшествующей статьи. Удар мечом в ножнах или рукоятью меча рассматривался также как оскорбление, этим и обусловлен столь высокий штраф.
Оскорбление чести и достоинства по степени компенсации нанесенного вреда стояло на четвертом месте в денежном выражении после убийства тиуна (княжеского управителя – 80 гривен), убийства свободного гражданина Киевской Руси (40 гривен), отсечения руки, что приравнивалось к убийству (40 гривен). Оскорбление стоило дороже, чем отсечение пальца (3 гривны).
Пятая, шестая, седьмая статьи посвящены членовредительству, которое также рассматривается как оскорбление, за которое мстить должен был сам оскорбленный.
Особо в Правде Ярослава выделена статья восьмая. Здесь явно определено понятие оскорбления, выражавшееся в повреждении бороды и усов: «А во усе 12 гривен, а в бороде 12 гривен».
Статья девятая («Аже ли кто вынезь мечь, а не утнеть, то тъи гривну положить») трактуется по-разному. В ее диспозиции усматривалось покушение на совершение преступления, а также оконченное преступление (угроза, оскорбление). Но скорее можно признать за вероятную версию то, что это была все же угроза, а не оскорбление, т. к. в списке предметов (статьи 3 и 4), удар которыми считается оскорбительным, обнаженного меча в нем нет, хотя оговаривается удар мечом в ножнах или рукоятью меча.
Примечательна статья 17-я – «...или холоп ударить свободна мужа, а бежить в хором, а господин начнеть не дати его, то холопа пояти, да платить господин за нь 12 гривне...» – своим двояким в древнерусском обществе отношением к холопу, который не был субъектом права и не мог отвечать перед судом за свои действия. Имущественные санкции к нему нельзя было применить, т. к. он не имел собственности. За него нес ответственность господин. Но на холопа распространялся обычай мести, и с этой позиции он мог выступать как субъект права. 12 гривен – это был штраф за оскорбление, нанесенное холопом свободному человеку: удар раба для свободного человека всегда оскорбителен.
Из сорока трех статей Краткой редакции «Русской Правды» (Правда Ярослава и Правда Ярославичей) семь статей посвящены оскорблению чести и достоинства. Определены предметы, удар которыми оскорбителен, классифицированы объекты, покушение на которые является оскорбительным. «Русская Правда» зафиксировала и кодифицировала обычное право, в котором достоинство личности ценилось высоко. В отличие от византийского и европейского законодательства в русском не было в качестве меры воздействия на преступника членовредительства как карательной практики. Система штрафов, и довольно высоких, регулировала внутриобщественные отношения.
Пространная Правда (Пространная редакция. Суд Ярославль Володимероч, Правда Русьская) насчитывает 121 статью и 7 дополнительных, среди которых статья о бесчестии («А се о бещестие»). Со статьи 23 начинается раздел об оскорблениях (223, 23–26).
Статья 23: «Аже кто ударить мечемь, но не вынез его, или рукоятию, то 12 гривен продажи за обиду» – перекликается со статьей 4 Правды Ярослава (Краткой Правды).
Статья 24: «Аже ли вынез меч, а не утнеть, то гривна кун» – аналогична статье 9 Краткой Правды по тексту и по размеру штрафа.
Статья 25: «Аже кто кого ударить батогом, любо чашею, любо рогом, любо тылеснию, то 12 гривен» – повторяет статью 3 Краткой Правды, но уже без упоминания «Любо жердью, любо пястью», – видимо, эти предметы подразумевались при рассмотрении дела.
Статья 26: «Не терпя ли противу тому ударить мечемъ, то вины ему в том нетуть» – свидетельствует о том, что ответ мечом на оскорбление действием не является преступлением и не подлежит наказанию. Вероятно, уже тогда стали учитывать состояние аффекта, вызванного оскорблением.
В Краткой Правде зафиксированы различия в оценке одного и того же действия. Статья 30: «Аже ударить мечем, а не утнеть на смерть, то 3 гривны, а самому гривна за рану» – рассматривает удар мечом не как оскорбление, а как причинение телесного повреждения и наказывается поэтому невысоким штрафом в 3 гривны. Иначе говоря, защита чести и достоинства особо выделялись в первых русских законодательных актах.
Статья 65 воспроизводит норму статьи 17 Краткой Правды, сохраняя высокий уровень штрафа.
Интересные изменения отражены в статье 67, которая созвучна статье 8 Краткой Правды, но имеет новые диспозиционные элементы. «О бороде. А кто порветь бороду, въньметь знамение, а вылезуть людие (т. е. свидетели), то 12 гривен продаже; аже без людии, а в поклепе, то нету продаже». Этой статьей открывается новый раздел Пространной Правды, в котором есть указания на уголовное и процессуальное право. Повреждение бороды рассматривалось как тяжелое оскорбление со всеми вытекающими отсюда последствиями. В статье уже регламентируется процессуальная сторона дела – должны быть представлены вещественные доказательства (значение) и свидетели. Без них, свидетелей, обвинение рассматривалось как поклеп (клевета) и штраф не взимался.
Повреждение бороды как оскорбление (штраф 12 гривен) зафиксировано и в Уставе князя Ярослава о церковных судах (статья 26: «Аже пострижеть голову или бороду, епископу 12 гривен, а князь казнить»), такая же статья определена и в Псковской Судной грамоте (статья 117). Отношение к бороде, усам и прическе в Древней Руси было более чем трепетное.
Насильственное сбривание иногда приводило к конфликтам и военным действиям. К примеру, для разрыва отношений (нужен был повод) с Андреем Боголюбским киевский князь Мстислав Ростиславич в 1174 г. намеренно оскорбил его, приказав подстричь его послу голову и бороду. Объявление войны со стороны Андрея Боголюбского последовало незамедлительно.
Статья 26 Устава князя Ярослава Мудрого запрещает остригать волосы на голове (адресован запрет женщинам) и сбривать бороду. Значительная сумма штрафа за порчу бороды свидетельствует о том, что вырывание ее расценивается как оскорбление действием, обезображивание лица. Чем было вызвано столь бережное отношение к волосяному покрову на лице? Статья 26 повторяла стихи Ветхого Завета. «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края головы своей» (Левит, гл. 19, стих 27) (45, 145). Следование ветхозаветной заповеди, а также охрана волос и бороды от посягательства было вызвано, вероятно, тем, что они считались внешним признаком принадлежности к православному народу. «Это служило простым и наглядным средством консолидации внешне однообразной массы и противопоставлением ее вне стоящим. Высокие санкции устанавливались именно потому, что изменение облика вело бы к ликвидации одного из признаков такой консолидации (223, 185). Не менее важным было соблюдение православных условностей и для женщин (длинные волосы, повой – головной убор, платок). Срывание повоя с головы женщины штрафовалось хоть и вполовину меньше, чем за бороду, но тоже сурово – 6 гривен. К примеру, в статье 8 договора Новгорода с немцами 1189–1199 гг. говорится: «Оже съгренеть чюжее жене повои с головы или дщьри, явится простоволоса, 6 гривен старые за сором» (223, 145).
Статья 68 «О зубе»: «Аже выбьють зуб, а кровь видять у него во рте, людье вылезуть, то 12 гривен продаже, а за зуб гривна» – рассматривала потерю зуба как результат оскорбления, а за сам зуб (факт членовредительства) потерпевший получал возмещение в размере 1 гривны.
Среди дополнительных статей Пространной редакции «Русской Правды» особо выделена статья «О бесчестии» – «А се бещестие»: «А за бещестную гривну золота, аще будет баба была в золоте и мати, взяти ему 50 гривен за гривну золота, аще будет баба не была в золоте, а по матери ему не взяти золота, взяти ему гривна серебра...» Здесь наказание за оскорбление зависит от родовитости оскорбленного, которая определялась правом двух поколений предков оскорбленного, правом по женской линии (бабушки и матери) получать возмещение в золоте, что являлось свидетельством боярского происхождения.
Все вышеназванные статьи «Русской Правды» отражают и кодифицируют один из феноменов речевых актов – перлокуцию, т. е. действия, поступки и прочее со стороны адресата, непосредственно и однозначно обусловленные данным высказыванием.
Наказание за вербальный (словесный) акт впервые появляется в Уставе князя Ярослава о церковных судах (Краткая редакция) в статье 25: «Аже кто зоветь чюжу жену блядию великих бояр, за сором ей 5 гривен золота, а епископу 5 гривен золота, а князь казнить, а будеть меньших бояр, за сором ей 3 гривны золота, а епископу 3 гривны золота, а буде городцких людии, за сором ей 3 гривны серебра, а епископу 3 гривны серебра, а сельских людии за сором ей гривна серебра, а епископу гривна серебра» (223, 169). Впервые устанавливается ответственность за оскорбительное высказывание в адрес чужой жены, которое рассматривается как позорящее женщину и ее семью.
По словам В. О. Ключевского, внесение в законодательство ответственности за оскорбление именно словом «было первым опытом пробуждения в крещеном язычнике чувства уважения к нравственному достоинству личности человека». В Уставе Ярослава наказание за оскорбление словом приравнено к изнасилованию и умыканию (речь идет о женщинах свободного состояния, а не дочерях родителей из простой чади). За сором (позор) изнасилования боярской дочери штраф был 5 гривен золотом, дочери меньших бояр – 3 гривны золотом. Это непомерно высокие ставки денежных взысканий. Я. Н. Щапов, специально исследовавший денежный счет Устава, высчитал, что «гривна золота равна по ценности слитку золота весом в 160 граммов» (298, 298–299). Эти нормы в той же диспозиции перешли и в Пространную редакцию Устава Ярослава,
Из последующих правовых документов наказание за оскорбление действием зафиксировано в Псковской Судной грамоте (статья 177), первая редакция которой, состоящая из 50 статей, была принята на вече в 1397 г., последняя редакция принята после 1462 г. Наказание за оскорбление словом отсутствует. Определен только вред за бороду – «А кто у кого бороду вырвет, а послух (свидетель), ино ему крест целовати и битися на поли, а послух изможет, ино за бороду присудить два рубля, и за бои, а послуху быти одному». По-прежнему сохраняется высокий уровень материального возмещения (1 рубль = 30 гривен = 220 денег. За убийство при разбое штраф равнялся 1 рублю).
Оригинальную статью ввели законодатели в Псковскую Судную грамоту – статью 119: «А жонки с жонкою присужать поле, а наймиту от жонки не быти ни с одну сторону». Уникальность статьи заключалась в том, что споры между двумя женщинами предписывалось решать поединком. При этом запрещалось выставлять вместо себя наймитов.
В период между «Русской Правдой» и Судебниками 1497 и 1550 го- дов, т. е. во время складывания Московской Руси, был создан ряд местных правовых документов – Новгородская и Псковская Судные грамоты, уставные грамоты наместничьего управления, губные и земские грамоты, указные грамоты и т. д.
Особый интерес представляет Двинская уставная грамота, созданная в 1397–1398 гг. История появления грамоты на свет связана с восстанием на Двине. Восстание было организовано Москвой с целью присоединения Двинской земли к Московскому государству и отторжения ее от Новгорода. Восстание вызвало войну между Москвой и Новгородом, которому удалось вернуть мятежную территорию к исходному состоянию. Двинская уставная грамота действовала в этот краткий период, когда эта территория входила в состав Московского государства. В основу Двинской уставной грамоты положены правовые нормы Русской Правды. В шестнадцати статьях нашлось место для защиты чести и достоинства, хотя во многих других грамотах этой позиции не уделялось внимания (к примеру, в Судебнике 1497 г., имевшем 68 статей).
«А кто кого излает боярина, или до крови ударит, или на нем синевы будут, и наместницы ему по его отечеству безщестие; тако жив слузе» – статья 2 выделяет оскорбление словом и действием, определяет субъект оскорбления: боярин и его слуги. В статье не определены карательные санкции; уровень наказания должен был определить наместник.
Строгая дифференциация штрафов отмечается в Судебнике 1550 года. Возмещение морального вреда, нанесенного оскорблением, приведено в соответствии с положением оскорбленного и получаемым им жалованием.
«А бесчестие детем боярским, за которыми кормлениа, указати против доходу, что на том кормлении по книгам доходу, а жене его бесчестья вдвое против того доходу; которые дети боарьские емлют денежное жалование, сколько который жалованьа имал, то ему и бесчестна, а жене его вдвое против их бесчестия; а дьяком полатным и дворцовым безчестие что царь и великий князь укажет, а женам их вдвое против их бесчестие; а торговым гостем болшим пятдесят рублев, а женам их вдвое против их бесчестие; а торговым людем и посадцким людем и всем середним бесчестиа пять рублев, а женам их вдвое бесчестиа против их бесчестиа; а боярскому человеку доброму бесчестиа пять рублев, опричь тиунов и довотчиков, а жене его вдвое; а тиуну или довотчику и праведчику бечестиа против их доходу, а женам их вдвое; а крестианину пашенному и непашенному бесчестиа рубль, а жене его бесчестиа два рубля; а боярскому человеку молодчему или черному городцкому человеку молодчему рубль бесчестиа женам их бесчестиа вдвое» (статья 26, Судебник 1550 г.).
Сумма штрафов, как это четко видно из цитируемой статьи, зависела от положения на социальной иерархической лестнице. Судебник особо выделял защиту государственных служащих – дьяков полатных и дворцовых, сумму за бесчестье которых определял сам царь и великий князь. Бесчестие в этой статье понимается как оскорбление словом и действием; нанесение физического увечья (неопасного для жизни) квалифицировалось как оскорбление, и сумма штрафа определялась так же. «Боярский человек добрый» (т. е. высший представитель боярской челяди) приравнивался к среднему жителю посада, и его бесчестие компенсировалось вознаграждением в 5 рублей. «Боярский человек молотчий» (ступень ниже) приравнивался к «черному городцкому» и крестьянину пашенному и непашенному, т. е. черносошному, занимавшемуся земледелием, промыслом или торговлей, и его бесчестие оценивалось в 1 рубль. Право чести определяется как сугубо личное, и ориентиром компенсации морального вреда служит оценка государством служилого человека. В Судебнике особо выделяется положение городского населения, которое упоминается вслед за боярами и княжескими слугами. Высокие штрафы в 50 и 5 рублей свидетельствуют о роли городского населения в государстве. За бесчестие жены штраф налагался вдвое больше, чем за мужа. Но следует отметить, что это вовсе не означало, что таким высоким было положение женщины в русском обществе. Оскорбление жены расценивалось как оскорбление мужа и всей семьи, что и оценивалось двойной ставкой штрафа.
Выдающимся памятником в истории российского законодательства было Соборное уложение 1649 года – систематизированный закон, регулирующий многие области жизни русского общества. Еще с 1637 года дворяне в челобитных ставили вопрос о создании «уложенной судебной книги». На Земском соборе 16 июля 1648 г. была создана специальная комиссия для подготовки проекта Уложения. Возглавил комиссию князь Н. И. Одоевский.
Слушание проекта Уложения проходило на соборе в двух палатах: в одной были царь, Боярская дума и Освященный собор; в другой – выборочные люди разных чинов. 29 января 1649 г. было закончено составление и редактирование Уложения. Внешне Уложение представляло собой список из 959 узких бумажных столбцов, в конце шли подписи 315 участников Земского собора. Со свитка была составлена копия в виде книги. Уже в 1649 г. было напечатано 2500 экземпляров Уложения, ставшего первым печатным памятником русского права. (До этого публикация ограничивалась оглашением законов на торговых площадях и в храмах, что давало возможность воеводам, государственным чиновникам творить произвол, трактуя правовые нормы по своему усмотрению.)
Глава первая Уложения посвящена рассмотрению дел о богохульстве, оскорблении православной веры и священников, сквернословии и «бесчестии» словом в церкви.
Статья 1: «Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русский человек, возложит хулу на господа бога и спаса нашего Иисуса Христа,... или на святых его угодников, и про то сыскивать всякими сыски накрепко. Да будет сыщется про то допряма, и того богохульника обличив, казнит, зжечь» (223, 85).
Статья 2: «А буде какой бесчинник пришед в церковь божию во время святыя литургии, и каким будет обычаем, божественныя литургии совершати не даст, и его изымав и сыскав про него допряма, что он так учинит, казнити смертию безо всякия пощады».
Статья 3: «А будет кто во время святыя литургии и в иное церковное пение, вшед в церковь божию, учнет говорить непристойные речи патриарху, или митрополиту, или архиепископу и епископу, или архимандриту, или игумену и священническому чину..., и тому бесчиннику за ту его вину учинити торговая казнь».
Статья 6: «А будет такой бесчинник кого ни буде в церкви божий ударит, а не ранит, и его за такое бесчиние бити батоги, да на нем же взять тому, кого он ударит, бесчестие».
Статья 7: «А будет кого бесчестить словом, а не ударит, и его за бесчинъство посадити в тюрму на месяц. А кого он обесчестит, и тому доправить на нем бесчестие, чтобы на то смотря в церкви божий никакова бесчинъства не было».
Уложение защищает церковь как идеологический институт государства, вынося на первое место оскорбление словом и действием как самой религии, церкви, так и ее служителей, карает за недостойное поведение в храме. Столь повышенное внимание к защите веры, церкви объяснялось тем, что церковь была единственным идеологическим институтом в государстве, через который шло воздействие на массы. К тому же не так уже много времени прошло после Смуты, на южных и западных окраинах государства положение еще не было стабилизировано и приведено в норму. Отношение к церкви, ее служителям – это и отношение к царской власти, государству» (223, 85–86). Поэтому богохульство, которое определяется как оскорбление словом и действием, а также неверие, отрицание Бога Иисуса Христа и т. д. являлось посягательством на основы православного вероучения, а следовательно, и на основы русского государства. Отсюда и применение казни «безо всякия пощады», т. е. квалифицированными видами ее, к числу которых относились сожжение, колесование, четвертование и т. д.
Получило законодательное оформление наказание за оскорбление царя, царской семьи, а также нарушение правил поведения при царе, на царском дворе. Глава вторая «О государьской чести» и глава третья «О государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни от кого никакова бесчинъства и брани не было» устанавливают жесткие карательные санкции за нарушения. «Неподобная», или непристойная речь в адрес государя относилась к виду «злого дела», что каралось смертной казнью. Интересно, что в Уложении не нашел отражения такой вид преступления, как покушение на жизнь царя.
Видимо, тогда считалось, что уже обнаружение умысла, высказывание «злонамеренных» мыслей равно самому преступлению. В высшей степени непригожие слова, изобличающие особую злостность умысла, именовались в приказной стилистике «невместимыми словами», то есть чего не только сказать, но и подумать невозможно.
Кроме «невместимых слов» выделялись «непристойные речи», т. е. бранные, оскорбительные слова в адрес государя. К оскорблению приравнивалось упоминание царя не на первом месте в здравицах на пиру в честь воеводы или князя. За это полагалось битие кнутом, вырезание языка.
Воспитательное значение имела статья 1 главы третьей: «Будет кто при царском величестве, в его государеве дворе и в его государьских полатах, не опасаючи чести царского величества, кого обесчестит словом, а тот, кого он обесчестит, учнет на него государю бити челом о управе, и сыщется про то допряма (свидетели, подтверждение), что тот, на кого он бьет челом, его обесчестил, и по сыску за честь государева двора того, кто на государеве дворе кого обесчестит, посадити в тюрму на две недели, чтобы на то смотря иным неповадно было впредь так делати. А кого он обесчестит, тому указати на нем бесчестье» (223, 89–90). Уровень поведения, уважения к царской особе, царскому дому оставлял желать лучшего, и было просто необходимо добиться соблюдения элементарных норм поведения, пресечь опосредованное оскорбление царя и царского дома.
Следующие статьи имеют суровые карательные санкции. К примеру, нанесение ран (равно как и убийство) на царском дворе каралось смертной казнью. Обнаружение оружия, не сопровождавшееся ни убийством, ни ранениями противника, но совершенное на дворе государя, наказывалось отсечением руки (статьи 3, 4, 5).
Значительная часть статей десятой главы посвящена теме оскорбления чести и достоинства, по преимуществу священнослужителей. Открывает их череду статья 27, определяющая наказания за оскорбления в кругу представителей привилегированного класса: «А будет кто кого чем обесчестит, и за бесчестие чинити указ. Будет боярин, или околничей или думной человек обесчестит словом патриарха, и за патриаше бесчестье боярина и околничего и думного человека по сыску отослать к патриарху головою» (223, 92).
Дифференциация чести отражается в системе штрафов. Разработана персональная система штрафных санкций, начиная со статьи 22: «А будет боярин, или околничей или думной человек обесчестит словом митрополита, или архиапископа или епископа, и за митрополита, и за архиепископа бесчестье, боярину и околничему и думному человеку платить митрополиту за бесчестье четыре ста рублев, архиепископу триста рублев, епископу двесте рублев. А будет кому платить нечем, и его за властелинское бесчестье отослать ко власти головою, будет сыщется допряма».
В следующих статьях (29, 30, 31) идет снижение по социальной лестнице: субъектами действия, события выступают дворяне, крестьяне, казаки, пушкари, стрельцы и т. д., объект остается прежним – священнослужители от верхней до нижней ступени иерархической лестницы.
От 32 до 89 статьи включительно идет перечисление монастырей, за оскорбление которых полагались дифференцированные штрафы. «Живоначальная Троицы Сергиева монастыря архимандриту сто рублев; того же монастыря кесарю восемьдесят рублев, казначею шестьдесят рублев; соборным старцом по дватцати рублев» (статья 32). «Из Ростова Богоявленского монастыря архимандриту сорок рублев; кесарю двадцать рублев; казначею пятнадцать рублев; соборным старцам по десяти рублев» (статья 47).
Далеко не все монастыри были указаны в главе 10 Соборного Уложения, поэтому для остальных регламентирующей была статья 81: «А которых монастырей в лестнице не написано, и тем по суду класть за бесчестье: архимандритом по десяти рублев; игуменом по осми рублев; кесарем и казначеем по шти (шести) рублев».
Особая статья о бесчестии посвящена именитым людям Строгановым (статья 94 Соборного Уложения), в ней перечислены строгоновские привилегии, а также многие категории представителей общества вплоть до гулящих людей, которым за оскорбление полагался один рубль.
Последняя, 99-я статья защищает женщин: «А будет кто ни буди обесчестит непригожим словом чью жену, или дочь девку, или сына неверстанного, какова чина ни буди, и женам, и дочерям девкам и сыновьям неверстанным по суду и по сыску правити за их бесчестья; жене против мужня окладу вдвое; дочери девке против отцова окладу вчетверо; сыну неверстанному против отцова окладу в полы» (223, 112).
В Соборном Уложении 1649 года была продолжена традиция защиты женской чести. За оскорбление замужней, вероятно, и вдовой тоже, выплачивалось двойное возмещение, а девушки – вчетверо больше, чем мужчины. Учитывался социальный статус оскорбленной, положение ее мужа (отца) в обществе.
Всегда интересно и примечательно выглядят исторические параллели, сравнения юридических памятников.
Глава 48 «О выбитом глазе» из эдикта Ротари (Лангобардская Италия VII–VIII вв.) находит свое продолжение в «Русской Правде»: «Если кто выбьет кому-либо глаз, уплачивает штраф как совершивший убийство, в соответствии со степенью родовитости и знатности данного лица и половину цены получает тот, у кого выбит глаз» (вторая половина, разумеется, идет королю) (308, 532).
«Русская Правда» Ярослава Мудрого не была самостоятельным правовым документом, родившимся в Киевской Руси. Многие статьи были позаимствованы и нашли свое применение на русской почве. «Вестготская правда» – юридический источник готской Испании – представляет собой кодекс законов, изданных около 654 г. вестготским королем Реккесвинтом. Кодекс состоит из 12 книг, которые делятся на 53 главы (титулы), 526 статей. В кодекс вошли законы вестготских королей, изданные в разное время.
По своему значению за «Вестготской Правдой» следует важный исторический памятник по истории готской Испании – Lex Romona Visigothorum. Этот свод законов был издан около 506 года вестготским королем Аларихом
Данным сводом законов (Lex Romona Visigothorum) пользовалось галло- и испано-римское общество Вестготского королевства до выхода в свет кодекса Реккесвинта.
Одна из характерных черт кодексов – это детализация общественных отношений, подробная интерпретация. К примеру, «Если раб получил от господина свободу, а потом стал вести себя заносчиво или оскорбил патрона, т. е. лицо, отпустившее его на волю, то он (раб) лишается полученной ранее свободы и возвращается в рабство» (308, 573). Нередко одна статья расширяет другую или дает толкование аналогичной, но различающейся в деталях, ситуации. В статье «Из-за чего должно отменяться освобождение» («Вестготская Правда») читаем: «Если кто-нибудь даровал своему рабу или рабыне свободы и это подтверждено в присутствии священника или двух-трех других свидетелей, за исключением тех случаев, когда вольноотпущенник нанес тому, кто освободил его, обиды и оскорбления или выдвинул против него клеветнические обвинения; за такие обиды дарованная свобода может быть отменена» (308, 574).
Самым ранним памятником англосаксонского права является Судебник кентского короля Этельберта (560–616 гг.). Примечательно то, что в ранних судебниках защита и наказание женщин были выражены в статьях закона. Статья 73 Судебника Этельберта гласит: «Если свободная женщина, носящая локоны, совершит бесчестящий ее поступок, должна уплатить 30 шиллингов» (308, 592). Здесь понятие «бесчестящий поступок» отдавалось на рассмотрение по нормам обычая, нравственных презумпций.
Законы Хлотаря (673–685) и Эдрика (685–686) дифференцированно защищают интересы не только конкретного человека, но и власти как таковой, т. е. короля. «Статья 11. Если какой-либо человек назовет другого в чьем-нибудь доме клятвопреступником или набросится на него с грубыми словами, должен уплатить 1 шиллинг тому, кто является собственником дома, 6 шиллингов тому, кого он оскорбил, и 12 шиллингов королю». «Статья 12. Если (в доме), где пируют, какой-либо человек отнимет кубок у другого, причем (последний) ни в чем не виновен, то он (отнявший кубок) по старинному обычаю должен уплатить 1 шиллинг тому, кто является собственником дома, 6 шиллингов тому, кого он оскорбил, и 12 шиллингов королю» (308, 595). В Средние века считалось нормой, что ни государь, ни собрание знати, никто не имеет права вырабатывать новых законов. Источником права считался Бог, а отсюда следовало, что право не может быть несправедливым, оно есть добро по своей сути. Латинское слово «юстиция» – justitia переводится как справедливость, законность. Отсюда право (закон) и справедливость – синонимы. Плохим было не право (закон), а его забвение, нарушение. Непреложным признаком закона считалась его старина, рождение в глубине веков. Его не вырабатывают, а находят, и возраст правовой нормы определяет ее добротность, как неоспоримое преимущество. Закон хранится в моральном сознании народа. «Роль юридических отношений еще более возрастала вследствие высокой ритуализованности общественной практики людей средневековья. В традиционном обществе нормальным было поведение человека, следующее принятым образцам, не уклоняющееся от раз и навсегда установленного канона. Такие образцы приобретали силу моральных эталонов, и отход от них рассматривался не только как предосудительный, но подчас и как правонарушение» (82, 156).
Представляет, на наш взгляд, несомненный интерес сравнение статей законов стран Западной Европы и Руси. Во многих случаях они перекликаются и преследуют одинаковые интересы.
| Законы Хлотаря и Эдрика (673–686) |
В «Русской Правде» употреблялось два термина: «закон» и «покон». Покон означает «начало», обыкновение, обычай, нрав, предание». Концепт Закон тесно связан с концептом покон, поскольку, мы говорили об этом раньше, главная ценность закона – это его «старина». Под «стариной» подразумевалось, что обычаи, предания известны.
Обычаи описывались, получали форму закона, но в крайне ограниченном количестве экземпляров. Первым печатным документом, отпечатанным в количестве 2500 экземпляров, что было очень мало для Руси, было Соборное Уложение 1649 года. Первое издание Полного Собрания Законов Российской империи было осуществлено только в 1832 году.
Царь Петр I, понимавший несовершенство действовавшего в России законодательства, неоднократно пытался подготовить новое Уложение. Делались попытки систематизации нового законодательства, представлявшего собой серию всевозможных указов, путем присоединения его к Соборному Уложению 1649 г. либо к регламентам.
«При Петре I в 1700 г. была предпринята первая попытка создания кодекса законов Российской империи. <...> Если сравнить общее количестве Уложений, Жалованных грамот, Наказов, Манифестов, Уставов, Трактатов, изданных за 175 лет – с 1649 по 1825 г., то в царствование Алексея Михайловича их было опубликовано 618, а при Петре I уже 3110. Еще больше интенсифицировалась законотворческая деятельность во второй половине XVIII столетия. В царствование Екатерины II за 33 года было издано 5997 нормативных актов и Указов, а за время правления Александра I вышло уже 1119 документов. Все это говорит о прогрессе государственно-правовой культуры российского общества, усложнении системы государственного управления» (193, 27).
Одним из интереснейших памятников из сферы уголовно-правовой эпохи царствования Петра I является Артикул воинский 1715 года с кратким толкованием. Артикул воинский содержит в себе не только сугубо воинские правила, но и нормы уголовного права.
Артикул применялся параллельно с Соборным Уложением 1649 г. К примеру, обвинение против А.Н. Радищева основывалось на шести статьях Соборного Уложения, четырех артикулах (статьях) книги 5 Устава морского, девяти артикулах Артикула воинского. Судебная палата приговорила Радищева к смертной казни со ссылками на Соборное Уложение, Воинский и Морской уставы Петра I.
Декабристы тоже были осуждены на основании норм Соборного Уложения и воинских артикулов Петра I.
Тема оскорбления царской и церковной власти и ее служителей находит отражение в Артикуле воинском. Глава первая «О страсе божий» почти с первых артикулов (статей) вводит определение богохульства и оскорбления словом.
Артикул 3: «Кто имени божию хулению приносит, и оное презирает, и службу божию поносит, и ругается слову божию и святым таинствам, а весьма в том он обличен будет, хотя еще в пиянстве или трезвом уме учинится: тогда ему язык роскаленым железом прожжен, и потом отсечена глава да будет» (223, 329).
Не менее суровое наказание предусмотрено за богохульство в артикулах 4, 5, 6, при этом учитывается состояние, т. е. социальное положение преступителя (преступника).
Артикул 4: «Кто пресвятую матерь божью деву Марию и святых ругательными словами поносит, оный имеет, по состоянию его особы и хуления, телесным наказанием отсечение сустава наказан или живота лишен быть».
Недонесение приравнивалось к соучастию и наказывалось адекватно. Артикул 5: «Ежели кто слышит таковые хуления, и в принадлежащем месте благовременно извету не подает, оный имеет по состоянию дела, яко причастник богохуления, живота или своих пожитков лишен быть» (223, 329).
Артикул 6 отделяет прямое и умышленное богохульство от неумышленного, не имеющего направленного действия: «А ежели слова оного ругателя никакова богохуления в себе не содержат, и токмо из легкомыслия произошли, а учинится то единожды или дважды, тогда имеет преступить четырнадцать дней в железа заключен быть и жалование его на месец в шпиталь вычтено, или голишем шпицрутен наказан, а в третьих аркибузирован (розстрелен) быть (223, 329).
Толкование (комментарий) к артикулу 6 определяет двойное наказание: «Ежели в помянутой вине, преступитель не смертию, но токмо на теле будет наказан, то может и церковное публичное покаяние при том же учинить» (223, 329).
Вероятно, для тогдашнего русского общества богохульство было если не значительной проблемой, то, видимо, доставляло определенные неудобства, которые необходимо было устранить и, судя по карательным мерам, даже искоренить. Покушение на православную веру, святых по силе наказания приравнивалось к государственной измене. Армия, по мнению царя Петра I, должна была быть образцом дисциплины, порядка и высокой нравственности, что и прививалось мерами, соответствующими тому времени. Включение этих статей в первую главу свидетельствует об их значимости.
В Артикуле воинском, в главе 17, установлен порядок разрешения споров и возникших во время них пьяных драк. Вызовы, драки, поединки строжайше запрещались. Участники дуэли по артикулу 139 должны быть повешены, а если оба убиты в поединке, то должны быть повешены за ноги. Любая ссора должна быть остановлена в самом начале, вплоть до вызова караула, а если такого не случится, то тот, кто не вызвал караула, тоже подлежал наказанию. Разрешать споры надлежало в установленном, определенном законом порядке. Его регламентировал артикул 147: «И дабы озлобленный и обруганный своею надлежащую сатисфакцию или удовольствие имел, когда он сам не захотел самоволне отмщение учинить, тогда должен он командиру оного места жалобу принесть, который должен оное дело приняв выслушать, и обиженному пристойное удовольствие учинить. Ежели кто сие пренебрежет, оный сам имеет быть наказан» (223, 353).
Впервые в русском законодательстве появляется четко сформулированное положение о клевете и оскорблении. Диспозиции статей (артикулов) свидетельствуют о внимании законодателя к этой нравственной проблеме, к защите чести и достоинства гражданина. Тема требует привести главу полностью.
«Артикул 149. Кто пасквили, или ругательные письма тайно сочинит, прибьет и распространит, и тако кому непристойным образом какую страсть или зло причтет, чрез что его доброму имени некакой стыд приченен быть может, оного надлежит наказать таким наказанием каковою страстию он обруганного хотел обвинить. Сверх того палач такое письмо имеет зжечь под виселицею».
Толкование. Например, ежели кто кого в пасквиле бранил изменником или иным злым делом, то оный пасквилотворец, яко изменник или каких дел делатель, о которых описал, наказан будет.
Пасквиль есть сие, когда кто письмо изготовит, напишет или напечатает, и в том кого в каком деле обвинит, и оное явно прибьет или прибить велит, а имени своего и прозвища в оном не изобразит. Ежели же дело, в котором будет в пасквиле обруганный обвинен, весьма о том будет доказано, то правда, хотя обыкновенное наказание не произведено будет, но однакож пасквилант по разсмотрению судейскому, тюрмою, сосланием на катаргу, шпицрутеном и протчим наказан быть имеет, понеже он истинным путем не пошел, дабы другаго погрешения объявить.
Ежели кто советом, помощию и делом к таким ругательным письмам вспоможет, оные тайно прибьет, кому в дом или на улице тайно подбросит и протчая: онаго не инако, яко пасквиланта самого, наказать, однакож по рассмотрению обстоятельств против оных иногда наказание легче чинитца.
Артикул 150. Ежели невозможно уведать пасквиланта, однакож надлежит пасквиль от палача сожжен быть под виселицею, а сочинителя оного за бесчестнаго объявить.
Артикул 151. Ежели офицер о другом, чести касающиеся или пакостные слова будет говорить, дабы тем его честное имя обругать и уничтожить, оный имеет пред обиженным и пред судом обличать свои слова и сказать, что он солгал, и сверх того посажен быть на полгода в заключение.
Толкование. Ежели оный поупрямитца, который приговорен себя обличить, то может он денежным наказанием и заключением к тому принужден быть, и ему иной срок по исполнению приговора положить. И ежели сему учинитца противен, то тюрмою крепчае, а долею денежною в двое прибавить, и иной срок назначен будет. И ежели уже и в сем учинитца противен, то может профос в присутствии упорнаго, именем его отзыв учинить, и последующее наказание над виновным исполнить.
Артикул 152. Ежели кто другаго не одумавшись с сердца, или не опамятовась, браными словами выбранит, оный пред судом у обиженного христианское прощение имеет чинить и просить о прощении. И ежели гораздо жестоко бранил, то сверх того наказанием денежным и сносным заключением наказан будет.
Толкование. Ежели оный, который имеет просить о прощении, в том поупрямитца, то можно оного чрез потребные способы к тому принудить.
Артикул 153. А ежели кто против бранных слов, боем или иным своевольством отрицать будет, оный право свое тем потерял, и сверх того с соперником своим в равном наказании будет. Також и оный право свое потерял, кто противно бранит, когда он от другого бранен будет».
Глава 18 тесно связана с предыдущей – «О возмущении, бунте и драке» (223, 354–355). Впервые на виновного возлагается ответственность за написание, распространение сведений о личности и частной жизни. Причем наказание определяется как за диффамацию, так и за нарушения правил извещения о совершенных преступлениях или правонарушениях, если сведения были достоверны.
В Артикуле воинском оскорбление словом относится только к офицерам, наказанием служило публичное принесение извинения и шестимесячное заключение. В случае отказа выполнить решение суда наказание ужесточается.
На представителей непривилегированных сословий этот артикул не распространялся, ибо по-прежнему действовал извечный российский принцип: «брань на вороту не виснет».
Поразительно в этом отношении выглядит артикул 177 в гла- ве 20 «О содомском грехе, о насилии и блуде», где сказано: «От позорных речей и блядских песней достойно и подобно всякому удержатись» (223, 360).
Статья содержит меру административно-полицейского характера, запрещает непристойные разговоры и песни, оскорбляющие окружающих, служащих вызовом общественной морали.
Другим не менее интересным юридическим документом XVIII ве- ка был «Устав благочиния или полицейский», принятый 8 апреля 1782 года императрицей Екатериной II.
Первый российский Наказ о градском благочинии был принят еще в 1649 году. Само слово «благочиние» употреблялось в церковной лексике и означало строгий порядок, соблюдение установленного порядка, благопристойное поведение. Петр I, ярый сторонник западной терминологии, слово «благочиние» заменяет на «полиция», употреблявшееся в законодательстве Франции и Германии. Екатерина II, демонстрируя свои русофильские наклонности, не злоупотребляла иностранными словами и включила в название Устава русское слово «благочиние», тут же пояснив его уже ставшим привычным словом «полицейский».
В Уставе нашлось место для статей о клевете и оскорблении. К примеру, статья 123 «О слухах, вред наносящих и о лжеклевете и проч» гласит следующее: «Буде частный пристав уведомится, что в его части разсеян слух, кому вред наносящий или лжеклеветы или поношение или злословие или слух умаляющий доверие или почтение к особе, к коей подобает почтение, или лжепредсказание или лжепредзнаменование, да предложит городничему, то буде он прикажет о том изследовать, от кого произходит, то о том изследовать, и по исследовании да предложит в управе благочиния» (223, 352). Далее дело передавалось в суд.
Отдельная статья в Уставе была направлена на защиту общественной морали и чести граждан от сквернословов. Определяется место и категория граждан, при которых запрещено употреблять бранные слова. Статья 222 «Запрещение о бранных и непотребных словах» гласит: «Запрещается всем и каждому в общенародном месте и при людях благородных или выше его чином, или старше летами, или при женском поле употреблять бранные или непотребные слова» (223, 70).
Статья 264 очерчивает для сквернословов карательные санкции следующим образом: «... с того взыскать пеню полусуточного содержания содержанного в смирительном доме, и сажать его под стражу дондеже (пока не. – Авт.) заплатит» (223, 380). В Уставе, в данных статьях, заложено желание исправить, улучшить общественные нравы.
В 1832 году под руководством выдающегося правоведа М. М. Сперанского (1772–1839) был создан Свод Законов Российской империи. В создании Свода законов Сперанский ориентировался на Кодекс Наполеона, но при этом учитывал и отечественный юридический опыт, традиции российского законодательства» (193, 27).
15 августа 1845 года было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Документ утвержден указом императора Николая I и вступил в действие с 1 мая 1846 года. Уложение насчитывало 2224 статьи, распределенных в 12 разделах.
Так же как и во всех предшествующих аналогичных юридических документах, второй раздел посвящен преступлениям против веры, оскорблениям православных святынь и святых, священнослужителей. Здесь нет скрупулезной детализации, как в Соборном Уложении 1649 г., но изложены всевозможные варианты оскорблений. Отделение первое главы третьей так и называется: «Об оскорблении святыни и духовных лиц во время священнослужения». Диапазон карательных санкций достаточно широк – от ссылки на каторгу до заключения в смирительном доме на различные сроки. К примеру, статья 227 определяет оскорбление с умыслом: «Кто с умыслом оскорбит дерзкими и грубыми словами священнослужителя во время отправления им службы божией, и тем прервет или остановит продолжение оной, то за сие приговаривается: к заключению в смирительном доме на время от шести месяцев до одного года, или в тюрьме на время от трех до шести месяцев, смотря по свойству оскорбления» (223, 22). Такому же наказанию подвергались лица «иностранных исповеданий», осмелившиеся оскорбить словом священнослужителя.
Законодателем было учтено огромное влияние в русском обществе печатного слова, поэтому статья 187 предусматривала очень суровое наказание за богохульство в письменном виде: «Кто в печатных или хотя и в письменных, но каким-либо образом распространяемых им сочинениях, дозволит себе богохуление, поношение святых господних или порицание христианской веры, или церкви православной, или ругательства над священным писанием и святыми таинствами, тот подвергается лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в отдаленнейших местах Сибири, а если он по закону не изъят от наказаний телесных, и наказанию плетьми чрез палачей в мере, определенной статьею 22 сего Уложения для первой степени наказаний сего рода» (Примечание. Статья 22, степень 1-я: наказание плетьми от двадцати до тридцати ударов).
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных расширенное и подробное толкование получили преступления против священной особы государя императора и членов императорского дома (раздел третий: «О преступлениях государственных»).
На первом месте стоит оскорбление в письменном виде. Статья 267: «Изобличенные в составлении и распространении письменных или печатных сочинений и изображений, с целью возбудить неуважение к верховной власти, или же к личным качествам государя, или к управлению его государством, приговариваются как оскорбители величества: к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в крепостях на время от десяти до двенадцати лет, а буде они по закону не изъяты от наказаний телесных, и к наказанию плетьми чрез палачей в мере, определенной статьею 21 сего Уложения для четвертой степени наказаний сего рода, с наложением клейм.
Участвовавшие в составлении или злоумышленном распространении таких сочинений или изображений подвергаются: тому же наказанию» (223, 233). (Примечание. Статья 21, степень 4-я: наказание плетьми от шестидесяти до семидесяти ударов.)
Эту статью продолжает, но уже с меньшим уровнем наказания, статья 268. Уважение к верховной власти культивировалось большими сроками тюремного заключения. «Кто осмелится произнести, хотя и заочно, дерзкие оскорбительные слова против государя императора, или с умыслом будет повреждать, искажать или истреблять выставленные в присутственном или публичном месте портреты, статуи, бюсты или иные изображения его, тот за сие оскорбление величества присуждается: к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу на заводах на время от шести до восьми лет, а буде он по закону не изъят от наказаний телесных, и к наказанию плетьми чрез палачей в мере, определенной статьею 21 сего Уложения для шестой степени наказаний сего рода, с наложением клейм» (223, 234). (Примечание. Статья 21, степень 6-я: наказание плетьми от сорока до пятидесяти ударов.)
Для российского законодательства характерно смягчение наказания за совершение проступка в пьяном виде. Вторая часть 268-й статьи гласит: «Если виновный дозволит дерзкие слова или поступки в пьянстве без преднамеренного на то умысла, то он приговаривается: к заключению в смирительном доме на время от шести месяцев до одного года» (223, 234). Свидетели дерзких поступков и оскорбительных слов, которые не препятствовали или не доложили о них «ближайшему местному начальству», приговаривались «к аресту на время от трех недель до трех месяцев, смотря по обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим вину их» (223, 234).
Почти на уровне с высочайшей императорской особой оценивалось оскорбление дипломатов иностранных государств.
Статья 282: «Кто осмелится явно и публично, действием или дерзкими непристойными словами оскорбить иностранного посла, посланника или иного дипломатического агента, с намерением оказать неуважение к самому правительству его, тот, и в особенности если его поступок такого рода, что он может быть предметом неприятных объяснений между сим правительством и кабинетом российским, подвергается за сие: заключению в крепости от двух до четырех лет, с лишением некоторых на основании статьи 53 сего Уложения, особенных прав и преимуществ. (Примечание. Статья 53: «... потеря некоторых личных прав и преимуществ ограничивается:
Для дворян: запрещением вступать в государственную или общественную службу, участвовать в выборах и быть избираемым в какие-либо должности, даже и в опекуны по назначению дворянской опеки;
Для священнослужителей: потерею духовного сана навсегда;
Для церковнослужителей: исключением из духовного звания;
Для почетных граждан и купцов: запрещением участвовать в городских выборах и быть избираемыми в почетные или соединенные с властью городские должности.)
За преступление сего рода, если оно учинено без злого умысла и без увеличивающих вину обстоятельств, виновный приговаривается: к заключению в крепости на время от шести месяцев до одного года» (223, 245).
Раздел четвертый: «О преступлениях и проступках против порядка управления» отчасти перекликается с Соборным Уложением, главой об оскорблении церкви и священнослужителей. Глава вторая этого раздела называется: «Об оскорблении и явном неуважении при отправлении должности». Глава насчитывает 16 статей, в которых учтены вероятные способы оскорбления служащих государственного аппарата. Карательные санкции 301 статьи, открывающей главу, предусматривают: лишение всех прав состояния и ссылку в Сибирь на поселение, причем оговорены губернии – Томская и Тобольская, наказание розгами, если по закону не изъят от телесных наказаний, отдача в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от двух до четырех лет, или же заключение в смирительном доме на время от одного года до двух лет. Все эти наказания были предусмотрены за то, что «если кто-либо с умыслом и для оказания неуважения к правительству раздерет, отбросит или вычернит, или иным образом повредит или исказит указы, присланные для обнародования или выставленные для сего в определенном месте, тот за сие, как за явное восстание против порядка управления, подвергается в случае, когда сие преступление учинено им публично при стечении народа, или по крайней мере в присутствии многих свидетелей» (223, 249).
Пьянство и невежество считались смягчающими вину обстоятельствами, и за те же самые действия виновный приговаривался к «заключению в тюрьме на время от трех до шести месяцев, или же к аресту на время от семи дней до трех недель; или же к денежному взысканию от пяти до двадцати рублей» (223, 245).
Оскорбление неприличным словом или действием чиновников в присутственном месте или изложение оскорбительных выражений в поданной к рассмотрению бумаге наказывается заключением в тюрьму сроком от трех до шести месяцев или же к аресту от семи до трех недель. «Если, однако же, дерзость его дойдет до такой степени, что он дозволит себе самые ругательства на присутствие или составляющих оное членов, или даже осмелиться поднять на них или одного из них руку, тот за сие подвергается: или ссылке в Сибирь на поселение, с лишением всех прав состояния (к ссылке в Томскую или Тобольскую губернии), наказание розгами, отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от одного года до двух лет» (223, 247).
Защищались честь и достоинство не только чиновника, но и «кто дозволит себе каким-либо действием, или ругательными, или поносительными словами оскорбить даже и частного, не принадлежащего к присутственному месту человека, тот подвергается: за обиду действием – заключению в тюрьме на время от шести месяцев до двух лет, а за обиду словом – заключением в тюрьме на время от трех до шести месяцев или аресту на время от трех недель до трех месяцев» (223, 247–248).
Даже представители власти, находившиеся на самой низкой ступени иерархической служебной лестницы, защищались законом не как граждане государства, а как представители власти на местах.
Статья 316: «За оскорбление неприличными словами или действиями лица, принадлежащего к волостному или сельскому управлению, виновные, подведомственные тому управлению сельские обыватели подвергаются, смотря по обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим вину их: или аресту на время от одного до трех дней; или денежному взысканию от двадцати пяти копеек до трех рублей, и во всяком случае обязаны испросить прощения у обиженного на общем сходе» (223, 249).
Юридическая защита представителей власти от оскорблений словом и действием должна была, по мнению законодателя, вызвать соответствующую реакцию у населения, воспитать у него почтение и уважение не к абстрактной, а конкретной власти, и любое стремление перейти очерченные границы строжайше наказывалось. Существенное расширение числа составов преступлений против представителей административного, полицейского аппарата связано не только с ростом и усилением его влияния, но с проявлением антиправительственных настроений, что выражалось в отношении к чиновничеству.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных предусматривало не только защиту чиновников, но и от чиновников. Статья 376 в главе «О превышении власти и противозаконном оной бездействии» трактовалась следующим образом: «Кто при отправлении своей должности оскорбит кого-либо словом или действием, тот за сие подвергается: наказаниям, определенным в статьях 2008–2011, 2013–2015 и на основании сих статей (выговор, замечание в послужной список и т. д.). Если и без прямой обиды или оскорбления во время отправления своей должности позволит себе неприличное с кем-либо обращение, то он приговаривается: к испрошению прощения на основании статьи 61 сего Уложения у того или тех, которые имеют право на него жаловаться. (Статья 61: «Равномерно присоединяются к некоторым из наказаний исправительных: опубликование осужденного через Ведомости Сенатские, обеих столиц и губернские, высылка за границу, если виновный иностранец, воспрещение жительства в столицах и иных местах или в собственных виновного имениях, с учреждением над оными опеки, также отдача под особый надзор полиции, запрещение производства прежнего или какого-либо иного ремесла или промысла, наконец, и постановление о испрошении им у обиженного или обиженных прощения, в присутствии свидетелей, по форме и в тех самых выражениях, которые для сего предписываются судом» (223, 186).)
Концепт Закон воспринимается в разных социальных стратах (слоях) по-разному. Журналисты относятся к нему как к средству, которое властные структуры используют для давления на СМИ. Закон – самовоспроизводящаяся система, которая оперативно откликается на появление новых тенденций в развитии СМИ. «В менее демократичных странах представители власти пытаются использовать глобализацию демократического стиля речи для того, чтобы препятствовать свободному потоку новостей якобы в целях защиты общественности от журналистов» (241, 31). Количество законов, регулирующих деятельность СМИ, резко возросло. В 1996 году в разных странах было издано 33 различных закона, которые можно распределить по пяти категориям: 1) законы о безопасности; 2) законы о нанесении оскорбления; 3) создание «ответственной журналистики»; 4) законы о защите экономики; 5) законы отчаяния. Каждый из этих законов преследует ограничительные цели.
Закон о безопасности содержит в себе карательные санкции за нарушения национальной безопасности. Органы власти держали в своих руках институты защиты безопасности охраны интересов государства, общественного порядка. К примеру, публикация о различиях в культурных традициях могут рассматриваться как конфликтообразующая и призывающая к невосприятию данной культуры. «В Камеруне один из законопроектов предусматривает запрещение издания газет, которые критикуют «общественный порядок», определения которого законопроектом не предусмотрено, или которые нарушают весьма неясные «стандарты хорошего поведения и ценностей» (241, 31). В России ограничителем распространения критической информации становится статья 49 Конституции РФ – «каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором» (139, 218). Некоторые суды автоматически переносят эту норму в плоскость исследования дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, применяя метафизический метод анализа: если не было возбуждено уголовного дела, не было приговора или уголовное дело было возбуждено, но затем прекращено (по разным основаниям), следовательно, информация, которую распространил журналист, неистинна и обвиняет человека в совершении противоправных деяний. Явления, события, действия, о которых писал журналист, по формальным основаниям считаются несуществующими, если это не доказано в судебном порядке. Отсюда следует, что возложение журналистом вины на руководителя за недостатки в работе, при отсутствии «вступившего в законную силу приговора», можно рассматривать как нарушения ст. 49 и ряда других статей Конституции РФ. И журналист меняет свою роль «обличителя общественных язв» на роль ответчика или подсудимого. Характер относительной индульгенции проявился в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» – «Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий». Единственным условием здесь является запрет на негативные оценки личности, отрицательное маркирование субъекта журналистского внимания. Это же Постановление ориентирует судей обращать внимание на статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, на статью 29 Конституции Российской Федерации, на позиции, выработанные Европейским Судом по правам человека, где определены различия между утверждениями о фактах, «соответствие действительности которых можно проверить, и оценочными суждениями, мнениями, убеждениями, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности». Однако серьезным документом, который создает для журналистов ряд опасностей, как для мнений и суждений по поводу события или явления, является Закон «О противодействии экстремистской деятельности». К примеру, в материале антифашистской направленности возможны цитаты из фашистских документов или произведений, демонстрация знаков, символов, что сразу подпадает под действие статьи 1 данного закона.
Закон о нанесении оскорбления – наиболее репрессивный для СМИ, поскольку концепт Оскорбление имеет размытые определения и нечеткую природу. К примеру, в латиноамериканских странах журналисты наказываются за нанесение оскорбления или вторжение в частную жизнь чиновников. В Аргентине в 1995 году был предложен законопроект, по которому журналисту грозило тюремное заключение на срок от одного месяца до двух лет за разглашение «без обоснованной причины информации о личных доходах государственных чиновников или лиц, связанных с ними».
В России такие нормы законодательно не закреплены, но имплицитно существуют и даже находят выражение в текстах судебных решений.
Один из законопроектов Уганды предполагает тюремное заключение сроком на пять лет и существенный штраф за публикацию журналистом «лживой» или «оскорбительной» информации. Таким образом, правительства различных стран обеспечивают себе защиту от реакции общественности на весьма сомнительные поступки чиновников.
Законы об «ответственной журналистике» базируются на идее (модели) теории социальной ответственности прессы. Пресса всегда была предметом критики и претензий, которые можно свести (безусловно, не расширяя тему) к следующим:
а) пресса пользуется своей огромной властью в собственных интересах. Люди, владеющее прессой, проводят свои взгляды, особенно в вопросах политики и экономики, в ущерб мнению оппонентов;
б) в освещении текущих событий пресса часто обращает больше внимания не на существенное, а на поверхностное и сенсационное, а развлекательным материалам, которые она представляет, зачастую недостает содержательности;
в) пресса является угрозой общественным нравам;
г) пресса без достаточных на то оснований вторгается в частную жизнь людей (244, 119–120).
Несомненно, что СМИ как общественный институт имеет массу недостатков и пороков, но у них иная природа, чем, скажем, у суда, прокуратуры или министерства. Некоторые из законопроектов содержат требования, чтобы публикации были основаны «на правде». Но кто может определять правду? Время, читатель или чиновник, ответственный в администрации за связи со СМИ? Правдивость журналистики подвергается сомнению всеми чиновниками. Некоторые законы предполагают установление этических норм для прессы, кодексов чести журналиста. Последнее, на наш взгляд, оказывало бы большее воздействие на «рептильную» журналистику, «желтую» прессу.
Ограничения на занятие журналистикой в ряде стран приобретают карательные формы. В странах Латинской Америки введено лицензирование журналистской деятельности. Один из законопроектов Сьерра-Леоне требует, чтобы все редакторы имели десятилетний стаж работы в журналистике (пять – в качестве редактора), ученую степень в этой области. В Нигерии и многих других странах Африки газеты проходят регистрацию каждый год, причем определение некоторого числа материалов как «сомнительных репортажей» может привести к отказу в выдаче лицензии.
Законы о защите экономики в ряде стран отражают стремление к рыночной экономике. Но правительства обвиняют СМИ в отсутствии достаточных зарубежных инвестиций, поскольку пресса, ТВ, радио якобы нагнетают обстановку, рассказывая о росте преступности, коррупции и т. д. К примеру, парламент Гондураса одобрил положение о тюремном заключении на срок от трех до шести лет за распространение «лживой, преувеличенной или тенденциозной информации, угрожающей национальной экономике».
Законы отчаяния (термин Л. Суссмана) вызваны к жизни правительствами, пытающимися загнать СМИ на поле более жесткого контроля. Законы отчаяния контролируют содержание информации, проходящей по радио, ТВ, Интернету.
В плоскости философского закона «единство и борьба противоположностей» идет непрекращающаяся война между СМИ и законом. В России журналисты знакомятся с Законом только в том случае, если попали в сферу его действия по принуждению. Они в основном руководствуются в своей работе обыденной логикой о справедливости своих суждений и начинают изучать статьи закона накануне судебного заседания, что во многих случаях приводит к печальным для них последствиям.
Концепту Закон (юридическому) имманентно присуща связь с другими Концептами, входящими в зону действия Закона: преступление, месть, наказание, беззаконие, право и т. д. Сюда же относится и Концепт Интерес, хотя на первый взгляд понятия «закон» и «интерес» разноплановые.
Закон есть результат борьбы за жизненные блага, нормативное оформление восторжествовавших интересов; «выражение воли правильно организованной законодательной власти, имеющее в виду целесообразное направление явлений общественной жизни» (49, 178).
Закон выступает регулятором человеческих отношений. Вносит смысл в эти отношения. «Дверь пространства законов открывается событием, в котором есть актуально, по смыслу собранная бесконечность эмпирических фактов и обстоятельств, – это событие и есть закон. Так как смысл завершен и не требует доказательств. <...> Казалось бы, именно из закона должна следовать справедливость, однако в этом и состоит наша проблема. Поскольку, хотя закон может быть провозглашен или принят, но если нет силы субъекта и силы языка, то есть пространства названности, когда голос водителя оказывается неравен голосу ГАИ, несмотря на их разные интересы, то нет и динамики этих интересов, которые могли бы регулироваться законом. <...> в законе работает сила языка, сила представленности говорящего множества. И когда все представлено, то закон оказывается странной вещью. Целью закона становится не справедливость, а сам закон. А справедливость достигается в совместном действии закона с силой языка. <...> закон в таком случае есть нечто, что всегда существует и действует только в среде закона. <...> закон устанавливается, или достигается, или осуществляется только путем закона же, то есть средства осуществления, или реализации закона сами содержат в себе закон» (167, 123).
Русской ментальности присуще непонимание и незнание каждым отдельным гражданином основных законов государства, своих прав. «Закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло» – четко определяет отношение россиянина к Закону. В понятии «Закон» видели кроме формального признака воли власти еще и материальный признак – нравственное содержание как выражение связи законодательной нормы с некоторыми постоянными и естественными устоями общества. Если в европейской культуре Концепту Закон противостоит оппозиция «беззаконность», то в российской культуре кроме «беззакония» в наше время родилось еще понятие «беспредел» – Концепту Закон противостоит еще и иная сфера, в которой все решается положительно, справедливо. Это сфера действия Правды как противопоставление Закону.
Концепт Закон тесно связан с общественным институтом, именующимся: средства массовой информации. Журналистика и Закон действуют в одном ментальном пространстве и пересекаются в выполнении некоторых функций, к примеру, правовое воспитание, борьба с преступностью. Закон действует в обществе в виде рафинированной абстракции, совокупности символов.
В русской духовной культуре и ментальности Закон имеет двойственную, противоречивую природу. Писаный закон ограничивает свободу человека, толкает его на преодоление ограничений. Закон есть предел, за которым существует другое пространство, где нет писаной, квалифицированной формы. Закон предполагает апеллирование образами, копиями вещи, символами.
Правопорядок держится на формальной правоте закона. Правота эта условная и имеет в основе своей допущения, в которых можно сомневаться и опровергать.
В Законе заложена идея общественной нравственности. Моральный смысл Закон приобретает тогда, когда ложится на почву Закона человеческой природы. Без этого Закон повисает в воздухе и выполняется по принуждению. Первые русские законы использовали обычное право и гармонично вписались в поле правосознания граждан Древней Руси. Законодательство России учитывало в ряде положений особенности мировоззрения русского общества.
Закон есть результат борьбы за интересы, жизненные и общественные позиции. Итог борьбы – это нормативное оформление восторжествовавших интересов.
Концепт Суд
С Концептом Закон тесно связан Концепт Суд (Правосудие). У них одна природа, одно происхождение. Суд – формальный гарант законности и справедливости, орган защиты прав и свобод граждан, призван обеспечить верховенство власти, правопорядок в обществе. Суд – один из самых первых общественных институтов, зародившихся еще в глубокой древности.
Концепт Суд имеет двойственную природу: Суд – юридический, формальный и Суд совести, нравственный, т. е. вне сферы Закона.
«Суд – орган государства, осуществляющий судебную власть путем отправления правосудия при рассмотрении гражданских и уголовных дел, дел об административных правонарушениях, экономических споров и некоторых других категорий дел в порядке, установленном процессуальным законом. Суд возникает вместе с государством, но выделяется в самостоятельный институт власти по мере развития государственного аппарата и образования специального аппарата <...> Судья – по законодательству РФ лицо, наделенное в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе. В своей деятельности по осуществлению правосудия судьи подчиняются только закону и никому не подотчетны» (262, 431–435).
Широкое толкование понятия «Суд» мы находим в Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля: «Судить, суживать – понимать, мыслить и заключать; разбирать, соображать и делать вывод; доходить от данных к последствиям до самого конца; сравнивать, считать и решать; // толковать, рассуждать, выслушивая мнения, советы, убеждения. <.. .> Суди по правде. Не зная дела, не суди <...> // делать разбирательство над обвиненным, дознавать распросами степень вины его, оправдывая или обвиняя, и приговаривая его к наказанию // Судиться с кем, тягаться, идти в суд, искать на ком, вчинить иск, требовать суда. С казною не судись. Судиться – не Богу молиться: поклоном не отделаешься // Разбирательство и приговор по спорному делу, или по проступку и преступлению, рассмотрение дел, где есть истец и ответчик. //
Суд по форме, судоговорение, гражданский, по особым правилам <...> Боярский суд (стар.), пошлина с судных дел. Суд сместный (стар.), двух судей разных ведомств или сословий. Суд с головы (стар.), с нижней степени – полицейский, исправительный, по легким проступкам. Третейский суд, когда, по согласованию, двое избирают сами третьего, покоряясь его суду. Страшный суд, всемирный, ожидаемый во второе пришествие Господа. Суд Божий, рок, судьба; женитьба, поединок, испытание огнем. <...> В суд ногой – в карман рукой. Судья в суде – что рыба в воде. Дело по делу, а суд по форме. Суд по форме – судей покормит. Где суд, там и неправда. В суд пойдешь – правды не найдешь. В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки – куда уйти? // Судилище (црк.), судище, суд как заседание судей, и как место суда. // Судбище ср. арх. суд, судебное разбирательство и судебная расправа. // Судейка м. (стар.), избранный или излюбленный земский судья. А в иных царских черных волостях, где приказчиков не бывает, учинены судейки, человек с десять, выборные люди, тех волостей крестьяне. Судопроизводство, законный и обычный порядок в судных делах и обряд; судебное письмоводство и судоговорение. Судоустройство, узаконенный порядок суда либо расправы. // Судьбы, провидение, определение Божеское, законы и порядок вселенной, с неизбежными, неминучими последствиями их для каждого (96, 355–356).
Суд, судебная система – тема безгранично широкая, и наше исследование не преследует цели дать полную историческую картину развития суда. Для характеристики концепта Суд будет достаточно нескольких исторических парадигм. Самая консервативная система, сохранившая процедуру, порядок, методы – это суд. Правовая культура почти у всех народов мира одинакова, так же как одинаковы или очень близки понятия справедливости, истины, правды, наказаний за нарушение законов.
Китайский путешественник Сюан Цзан описывает суд в Древней Индии. «В денежных делах индийцы бесхитростны и в отправлении правосудия внимательны к людям. Они боятся возмездия в будущих воплощениях души и равнодушны к земным делам. <...> Уголовных преступников или бунтовщиков в Индии мало. <...> Когда имеет место нарушение закона или покушение на власть государя, то дело тщательно расследуется и виновного в преступлении заключают в тюрьму. Телесных наказаний при этом не применяют, а человека перестают считать существующим и не заботятся, умрет он или будет жить. Когда же имеется преступление против собственности или справедливости, или когда человек виновен в неверности, или в непочтении к родителям, то за это обрезают нос или уши, или обрубают руки или ноги, или изгоняют из страны, или прогоняют в безлюдную пустыню. За другие проступки, кроме указанных выше, взимают небольшой денежный штраф, и это освобождает от иного наказания..., если обвиняемый упорно отрицает свою вину или, несмотря на наличие вины, старается оправдать себя, то для установления истины и принятия приговора применяют четыре рода ордалий: водою, огнем, взвешиванием, ядом» (308, 155–156).
Публий Корнелий Тацит оставил потомкам описание германцев и их суда: «Перед народным собранием можно также выступать с обвинением и предлагать на разбирательство дела, влекущие за собой смертную казнь. Наказания бывают различны, смотря по преступлению: предателей и перебежчиков вешают на деревьях; трусов и дезертиров, а также осквернивших свое тело топят в грязи и болоте, заваливши сверху хворостом. Эта разница в способах казни зависит от того, что, по их понятиям, преступление надо при наказании выставлять напоказ, позорные же деяния – прятать. Более легкие проступки также наказываются соответствующим образом: уличенные в них штрафуются известным количеством лошадей и скота; часть этой пени уплачивается королю или племени, часть – самому истцу или его родичам.
На этих же собраниях производятся также выборы старейшин, которые творят суд по округам и деревням. При каждом из них находится по 100 человек свиты из народа для совета и придания его решениям авторитета» (308, 273).
Приводя исторические примеры, мы намеренно не будем давать их в хронологическом и территориальном порядке. Смещение времени и места позволяет выявить характерные, общие для всех народов черты судопроизводства, общую, как это ни странно, юридически-правовую ментальность. Но продолжим наши примеры.
Новгород в последние годы своей вольности. Судебная практика основывается на Новгородской судной грамоте. В новгородском судопроизводстве обращает на себя внимание та особенность, что суд не был сосредоточен в особом ведомстве: свои суды были у городского владыки, у княжеского наместника, у посадника, у тысяцкого. «По договорным грамотам князь не мог судить без посадника, и по Судной грамоте посадник судит с наместником князя, а без наместника суда не кончает, следовательно, только начинает его. На практике эта совместная юрисдикция посадника и наместника разрешалась тем, что уполномоченные органы того и другого, тиуны, каждый отдельно разбирали подлежавшие им дела в своих одринах, или камерах, при содействии избранных тяжущимися сторонами двух приставов, заседателей, но не решали дел окончательно, а переносили их в высшую инстанцию или на доклад, т. е. для составления окончательного решения или на пересуд, т. е. на ревизию для пересмотра дела и утверждения положенного тиуном решения. В суде этой докладной или ревизионной инстанции с посадником и наместником или с их тиунами сидели 10 присяжных заседателей, по боярину и житьему от каждого конца. Они составляли постоянную коллегию докладчиков <...> и собирались на дворе новгородского архиепископа «во владычне комнате» три раза в неделю под страхом денежной пени за неявку» (124, 71).
Греция заложила основы судебной процедуры, развитой потом уже в Риме.
«Суд ареопага был окружен в глазах греков священным ореолом <...>, отличался строгим соблюдением ритуала. Он происходил только в три последние дня каждого месяца, непременно под открытым небом, чтобы присутствующие не осквернились, находясь под одной крышей с преступником, суд, по-видимому, происходил ночью, чтобы судьи не видели выражения лиц ораторов, а только слышали их слова. Председательствовал в суде ареопага архонт-басилей. Стороны приводились к особой, весьма торжественной присяге <...>. Затем обвинитель и обвиняемый произносили лично по две речи, причем они не должны были прибегать к риторическим прикрасам, действовать на судей просьбами и слезами, а должны были говорить только строго по существу дела. Поэтому <...> в речах <...> встречаются места: «Я мог бы рассказать про него еще много другого, но ... закон не разрешает у вас говорить о том, что не относится к делу...» Обвинитель и подсудимый стояли на двух необделанных камнях; первый – на камне непрощения, второй – на камне обиды. После первой речи всякий обвиняемый, кроме убийцы родителей, мог добровольным изгнанием избавиться от наказания.
На третий день ареопагиты постановляли приговор, руководствуясь, главным образом, своим усмотрением, а не речами сторон и свидетельскими показаниями» (286, 85–86).
В Греции существовали суды нескольких родов: государственные, в которых рассматривались дела, связанные с интересами государства, и частные, которые вели дела по нарушению чьих-то личных интересов. Подготовительный процесс перед рассмотрением дела, несмотря на отсутствие института полиции, прокуратуры, был достаточно четко разработан и имеет много общих, сходных черт с современным, а точнее современный процесс досудебной подготовки рассмотрения дела мало чем отличается от древнегреческого.
«День судебного заседания объявлялся за несколько дней вперед <...> Удостоверившись, что судьи, стороны и свидетели на своих местах, председательствующий открывал заседание <...> Секретарь оглашал обвинительный акт, после чего слово предоставлялось сторонам. <...> Для речей назначалось определенное время <...>, время регулировалось при помощи водяных часов – клепсидры, находившихся в заведовании избранного для этой цели гелиаста.
Когда слушали особенно важные дела, которые могли повлечь за собой смертную казнь, тюремное заключение, изгнание, лишение гражданских прав или конфискацию имущества, – для процесса отводился целый день, причем точно распределялось время для отдельных моментов: для обвинения, для защиты, для голосования судей. В этих случаях во время чтения документов клепсидру не останавливали, но обвинителю и обвиняемому предоставлялось равное время для обвинения и защиты.
<...> Закон требовал, чтобы каждый вел свое дело сам. Поэтому в Афинах не было адвокатов в современном понимании смысла слова. Однако стороны могли вести без посторонней помощи только мелкие процессы. В более сложных процессах <...> нужны были люди, которые знанием обычаев и законов могли бы помочь удачному ведению дела. Такими людьми были логографы – «писатели речей». Труд логографа оплачивался хорошо и пользовался большим спросом. <...> Но уважением логографы не пользовались, так как убеждения их считались продажными. <...> Главной задачей логографа было написание речи, которую клиент заучивал наизусть и произносил в суде. Такая речь должна была отвечать следующим требованиям: она должна была быть составлена применительно к умственному кругозору клиента, социальному положению, манере и умению говорить и т. д.
Так как судьи с недоверием относились к искусным ораторам <...>, то надо было составить речь так, чтобы она казалась речью человека неопытного, не искушенного в красноречии...
Был и другой способ юридической помощи. Нередко обвинитель или обвиняемый произносил только краткое введение, иногда несколько слов, а самую речь или ее наиболее ответственную часть произносили за них, с позволения судей, их друзья, один или даже несколько, большей частью пользующиеся уважением сограждан люди и искусные ораторы. Эти «помогающие ораторы» назывались синегорами, а их речь – синегорией.
Во время речи ораторы имели под рукой все представленные при предварительной подготовке дела документы, которые по мере надобности предлагали читать секретарю. <...> Стороны пытались всеми средствами воздействовать на судей, не щадили друг друга в своих речах, приводили с собою, вопреки запрещению закона, своих жен, престарелых родителей и малолетних детей, которые убитым видом, стенаниями и слезами старались разжалобить судей.
По окончании судоговорения происходила подача голосов судьями. Голосование было тайным без предварительного совещания между судьями. Голосовали посредством камешков белых или цельных и черных или просверленных, из которых первые служили для оправдания, а вторые для обвинения.
Упадку афинской демократии сопутствовал упадок нравов. Материальные выгоды для обвинителей, сопряженные с некоторыми видами процесса, создали целый класс ябедников – сикофантов. Это название принадлежало вначале доносившим о вывозе из Аттики смокв, запрещенном Солоном. Впоследствии этим термином были заклеймены продажные ябедники и публичные клеветники, преследовавшие личные выгоды. Нередко сикофанты только запугивали процессом с тем, чтобы за плату отказаться от обвинения. Развитие сикофантства было подлинным бедствием, появился даже новый вид обвинения – донос на сикофантов, вымогающих деньги злостными доносами» (286, 105–106, 109).
В Риме зародился и развился институт адвокатуры. «Защитники в широком смысле слова делились на три группы – advocati, laudatores, patroni, но <...> настоящими представителями сторон являлись только патроны (называвшиеся иногда oratores или defensores): они избирались из достойнейших граждан, не столько специалистов-законников, сколько вообще отличавшихся способностями и широкими знаниями. Так называемые адвокаты не участвовали в прениях, они либо давали сторонам юридические советы, либо своим присутствием выражали сочувствие той или другой стороне. «Лаудаторы» занимали среднее положение между защитниками и свидетелями. Они говорили не о фактах, составляющих сущность дела, а о личных качествах обвиняемого, его прошлом, заслугах и пр.
Patroni не получали никакого вознаграждения за защиту, лишь по окончании дела они могли принять почетный подарок от своего клиента: отсюда и название адвокатского вознаграждения – гонорар» (286, 146).
Из Древнего Рима сейчас, на наш взгляд, целесообразно переместиться в Южную Африку (пусть это не покажется парадоксальным) периода империи Чаки, т. е. конца XIX века, и посмотреть, какова там была система судопроизводства.
«Из среды старых людей, известных своими способностями, твердостью характера и умением управлять и командовать, король избирал себе советников и исполнителей, которых называли «индуна» – начальниками или капитанами (inDuna, множественное число izinDuna). Из их среды король назначал Великого индуна <...>, в известных пределах он исполнял функции, присущие верховному суду, пересматривая приговоры судов низшей инстанции, то есть окружных судов.
Кроме Великого общеплеменного индуна король назначал окружных индунов. Они правили также именем короля, но подчинялись Великому индуну и ведали только определенной частью территории племени. Они являлись своего рода «судебной палатой» и «полицейской властью» в стране, облечены были правом решать гражданские и уголовные дела исключительно местного значения и приводить свои решения в исполнение. В пределах своей юрисдикции они могли налагать любое наказание вплоть до самых суровых. Все конфискованное имущество, однако, по праву принадлежало короне.
Окружные индуны избирали в свою очередь среди наиболее значительных глав краалей округа для каждого участка своего заместителя умкумзана. <.. .> В обязанность этих чиновников входило поддерживать в пределах своего участка законность и порядок, вследствие чего они были облечены надлежащими полномочиями, имели право улаживать менее важные семейные дела, а также разбирать гражданские и уголовные тяжбы. Это была как бы низшая судебная инстанция, «магистрат» данной местности.
При такой превосходной судебно-административной системе можно было ожидать, что отправление правосудия будет безупречно, но, к сожалению, зулус-судья тоже человек. Мы не думаем, что вся эта система была столь порочна и подкупна, как, скажем, система английская, но и она допускала кривду и крючкотворчество не в меньшей степени, чем суды в так называемых цивилизованных странах Европы и Америки. Правда, бедный человек легко мог подать в суд, но если он судился с другом или фаворитом судьи и его дело было не вполне ясно и доказательства не были абсолютно убедительны, весы правосудия не склонялись в его сторону. Зулус, даже будучи судьей, был, прежде всего, как говорит пословица, «верен своим друзьям». <...> Все начальники, до местных включительно, имели официальных курьеров, обязанных вызывать и доставлять правонарушителей в суд. Это была «полиция» зулусов, и она оправдывала свое назначение. Постоянных разъездных и постовых полицейских, подобно нашим (английским), у них не было, так как законы нарушались редко; преступников у них было мало, а следовательно, не было и тюрем. Впрочем, для правонарушителей хорошего в этом было мало, так как они подвергались только одному из двух видов наказания – штрафу, который платили скотом, или смертной казни» (51, 284–285).
В судопроизводстве зулусы руководствовались неписаными законами, обычным правом, которые были ясны и понятны всем членам общества, основывались на опыте, справедливости и разуме. Высшей апелляционной инстанцией был король, который еще и творил законы. Однако обуздать его законодательные инициативы мог совет старейшин, который был вправе запретить ему противозаконные дела.
Содержание деятельности судов, процедура во всех судах были практически одинаковы. Наряду с официальными, законодательно оформленными судами существовали суды, которые также выносили свои приговоры и решения, не менее жесткие и суровые, руководствующиеся своими кодексами, но не подключенные к общей системе правосудия. Такими судами были суды любви и суды офицерской чести.
Суды любви (Cour d’Amour) действовали во времени рыцарства во Франции и представляли собой суды, в которые в качестве судей входили знатные дамы, обсуждавшие вопросы любви. Если между трубадурами, рыцарями возникал спор по вопросам любви, то они обращались в Cour d’Amour с просьбой о разрешении спора «к знатным дамам-президентшам, державшим гостеприимный двор любви» (49, 14). «Женщина занимает в любви принципиально иное место, нежели в официальном феодальном браке – союзе двух домов. Куртуазная любовь невозможна между мужем и женой. В одной рыцарской песне эта идея выражена с предельной ясностью: «Муж сделает нечто противное чести, если он будет любить свою жену, как рыцарь любит свою даму, потому что этим нисколько не увеличивается достоинство ни того, ни другой, и из этого не выйдет ничего больше того, что уже есть по праву». «Суды любви» при дворе аквитанской герцогини Элеоноры выносили вердикт, что рыцарской любви между супругами быть не может. Куртуазная любовь – незаконная, она стоит вне официальной сферы, но тем глубже затрагивает она внутренний мир индивида, тем сильнее раскрывает она содержание его души» (82, 187). По мнению исследователей, «суды любви» занимались установлением принципов любовной казуистики, обсуждали действительные дела, события, но без просьб сторон и афиширования имен. Решение суда не имело обязательного значения.
Суды офицерской чести родились в Пруссии в 1808 году, «когда военно-реорганизационной комиссией, под председательством Шарнгорста, был выработан закон, по которому офицер, оказавшийся виновным в пьянстве или ведущий развратную жизнь, или обнаруживший низкий образ мыслей, мог быть присужден большинством 34 голосов офицеров своей части к лишению права на производство в следующий чин. В 1821 г. ведению офицерских судов были подчинены все вообще поступки офицеров, не заключающие уголовно-наказуемого деяния, но несогласные с правилами чести или несовместимые с особым положением военных чинов. Вместе с тем офицерской корпорации предоставлено было, сверх лишения права на производство, присуждать к увольнению от службы. В 1843 г. издано подробное положение о судах чести для прусской армии, видоизмененное в 1874 г.» (49, 17).
В России образование судов общества офицеров относится к 1863 году. В это же время вышло новое положение о воинской дисциплине и дисциплинарных взысканиях. К компетенции судов общества офицеров были отнесены поступки несовместимые с понятиями о воинской чести и доблести, разбор ссор и обид между офицерами. Проблема «ссор и обид» между офицерами решалась с помощью другого, хоть юридически неоформленного, но жесткого кодекса о чести: дуэльного кодекса. Активные связи с Европой принесли новые ценности – самоуважение дворянина. Право на поединок стало для русского дворянина, особенно молодежи, свидетельством его человеческого раскрепощения, самоуважения, что вступало в противоречие с позицией монарха, которому нужны были подданные с самоощущением раба. Петр I, предвидя появление дуэлей, в «Уставе воинском» отводит место «Патенту о поединках и начинании ссор» задолго до того, как дуэли успели распространиться в России. Антидуэльное законодательство Франции и Германии легло в основу «Патента», принятого Петром I. Дуэлянты посягали на право императора распоряжаться их жизнями. Они руководствовались законами, которые были вне сферы действия законов государственных, и, следовательно, вступали в правовой конфликт.
Для дворянского авангарда была важна независимость и честь, т. е. иная ценностная шкала. Нередко накануне дуэлей, о которых было много разговоров в обществе, шло обсуждение вопроса о том, какой закон выше: закон военно-служебной иерархии или же закон чести. Многие дворяне воспринимали дуэль как судебный поединок Средневековья, когда справедливость должна была восторжествовать, потому что на ее стороне Правда и Бог, а зло должно быть наказано, уничтожено. Однако Правда и Бог находились в одной системе ценностей, а Закон – в другой. Статья 139 Артикула воинского категорически запрещала дуэли и определяла за них суровое наказание: «Все вызовы, драки и поединки чрез сие наижесточайше запрещаются таким образом, чтоб никто, хотя б кто он ни был, высокого или низкаго чина, прирожденный здешний или иноземец, хотя другой кто, словами, делом, знаками или иным чем к тому побужден и раззадорен был, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах, или на шпагах битца. Кто против сего учинит, оный всеконечно, как вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя из них кто будет ранен или умерщвлен, или хотя оба не ранены от того отойдут. И ежели случитца, что оба или один из них в таком поединке останетца, то их и по смерти за ноги повесить» (223, 352–353).
Дуэлянты и их секунданты наказывались сурово. Хрестоматийный пример – дуэль Пушкина. Константин Карлович Данзас (1801–1870) знал заранее о дуэли Пушкина и принял в ней участие. Пушкин, будучи при смерти, просил друзей не допустить строгого наказания своего секунданта: «Просите за Данзаса. Он мне брат». «После смерти Пушкина его вдова через посредников обратилась к царю с просьбой разрешить Данзасу сопровождать тело Пушкина к месту погребения в Святогорский монастырь. Сразу пришло письмо Бенкендорфа: «Я немедленно доложил Его Величеству просьбу г-жи Пушкиной дозволить Данзасу проводить тело в его последнее жилище. Государь отвечал, что он сделал все от него зависевшее, дозволив подсудимому Данзасу остаться до сегодняшней погребальной церемонии при теле его друга; что дальнейшее снисхождение было бы нарушением закона – и, следовательно, невозможно». Данзас был предан суду.
Военный суд первой инстанции вынес приговор по всей строгости закона. «Подсудимого подполковника Данзаса, – говорилось в нем, – хотя он и объясняет комиссии, что при изъявлении согласия быть посредником при выше объясненном происшествии, спрашивал секунданта с противной стороны Д’Аршиака не имеет ли средств к примирению ссорящихся миролюбно, который отозвался, что нет никаких, но как он поступил не по точной силе 142-го воинского артикула [«Для остерегания всякого случая надлежит при зачатии таких драк посторонним ссорящихся приятельски помирить искать, и ежели того не могут учинить, то немедленно по караул послать или самим сходить, и о таком деле объявить, дабы караул их развести или в нужном случае за арест взять мог. Кто сего не учинит, оный також, яко и виноватый накажетца» (223, 353)] и не донес заблаговременно начальству о предпринимаемом ими злом умысле и тем допустил совершиться дуэли и убийству, которое отклонить еще были способны, то его, Данзаса, по долгу верноподданного, не исполнившего своей обязанности, по силе 140-го воинского артикула повесить» [«Ежели кто с кем поссоритца и упросит секунданта (или посредника), онаго купно с секундантом, ежели найдут, и захотят на поединке битца, таким же образом, как и в прежнем артикуле упомянуто, наказать надлежит» (223, 353). Вторая инстанция смягчила приговор, постановив отобрать у Данзаса золотую полусаблю, данную ему за храбрость, и разжаловать в рядовые. Однако по мере прохождения указа по дальнейшим инстанциям мера наказания снижалась, пока не достигла двух месяцев содержания в крепости. 19 мая 1837 года Данзас вышел на свободу.
Долгое время он прослужил в Санкт-Петербургской инженерной команде. Очень скоро вновь не поладил с начальством и был направлен в Тенгинский полк, где оказался прямым начальником М. Ю. Лермонтова» (100, 542–543).
До 1836 г. писанного и утвержденного дуэльного кодекса не существовало. Он появился во Франции, где в 30-е годы дуэли стали, чуть ли не стандартным способом выяснения отношений, особенно этому способствовали газеты. Публикация с едкими или критическими замечаниями воспринималась как оскорбление. «С 1832 по 1835 год в Париже зафиксировано было 180 «журналистских поединков».
В России подобный повод для дуэли казался нелепым. На прямые оскорбления, которым подвергался Пушкин в фельетонах Булгарина, он никогда не думал ответить вызовом. Дуэль была для него средством разрешения конфликтов куда более серьезных, чем литературные склоки. Он прямо об этом писал: «Если уж ты пришел в кабак, то не прогневайся – какова компания, таков и разговор; если на улице шалун швырнет в тебя грязью, то смешно тебе вызывать его биться на шпагах, а не поколотить его просто». Речь шла о том, что пасквилянта надо бить памфлетом, литературным сарказмом, а не клинком или пулей». Так же относился к задиристому А. С. Пушкину журналист Ф. В. Булгарин.
Пушкин писал с уважением об английском аристократе, «который равно готов и к благородному поединку, и к кулачному бою с простолюдином. Но особость русской дуэли была ему ясна: в Англии для защиты чести человек располагал полным арсеналом правовых средств, в самодержавной, деспотической России – только дуэлью...» (90, 94).
В 1836 году аристократический жокей-клуб обратился к графу Шатовильяру с просьбой подготовить и издать дуэльный кодекс. Позднее этот кодекс подписали 100 аристократов Франции. В Европе дуэльный кодекс исполнялся до мелочей и был прямым руководством. Но России и в этом случае Европа была не указ. Кодекс предусматривал минимальное расстояние для дуэли на пистолетах 15 шагов, а обычное – 25–35 шагов. В России минимальной была дистанция в три шага, обычной 8–10 шагов. «20 шагов в дуэли Лермонтова с Барантом в 1840 году были явной уступкой французской стороне» (90, 96).
Вплоть до начала XX века в России будут дуэли: некоторые по решению офицерских собраний, некоторые из-за публичных выступлений в газетах или с трибуны Государственной думы.
Внесудебной инстанцией, следящей за соблюдением кодекса офицерской чести, будут оставаться офицерские собрания и суды офицерской чести. Закон 1894 г. возложил на эти суды решение вопросов о поединках. Состав суда был следующим: в полку суд состоял из 7 человек, избираемых из числа штабс-офицеров и обер-офицеров не ниже штабс-капитана сроком на 1 год. Дополнительно избирались два кандидата. Перед рассмотрением каждого дела проводилось расследование, результаты которого докладывались командиру полка. От него зависело прекращение дела или передача в суд. Суд состоялся при закрытых дверях под председательством старшего офицера. Выносимый приговор был трех видов: оправдание, внушение, удаление из полка. В тот же день приговор доводился до сведения командира полка. Жалоба на сам приговор не допускалась, можно было жаловаться только на нарушения процессуальных норм. Если приговор был обвинительный, т. е. удаление из полка, то офицеру давался трехдневный срок на подачу рапорта об увольнении.
Итак, дуэли и суды офицерской чести являлись внезаконными и внесудебными институтами, в которых защита личности была основополагающим моментом, противостоящим государственным институтам. Гражданин в России не был гражданином в европейском смысле этого слова, он – винтик государственной машины. В российской ментальности крепко держались, да и до сих пор держатся положения Соборного уложения. По мнению В. О. Ключевского, «Государство, воспрещая лицу частную зависимость, не оберегало в нем человека и гражданина, а берегло для себя своего солдата и плательщика. Уложение не отменяло личной неволи во имя свободы, а личную свободу превращало в неволю во имя государственного интереса» (124, 183–183).
Никогда, этому есть основания, на Руси не считали суд единым и равным для всех. Долгое время существовала дифференцированная система наказаний и привилегий, была распределена по общественным слоям: чем ниже слой, тем выше наказание. Эпоха Сталина есть исключение. К примеру, вплоть до конца 80-х годов XX века в СССР отдать под суд коммуниста можно было только после исключения из членов КПСС. Homo locum ornat, non hominem locus («Человек красит место, а не место человека») – эта латинская поговорка для россиянина всегда формула наоборот. Права человека, достоинство личности – это категории для диспутов, дискуссий, но не для внутреннего употребления в деятельности российских государственных институтов.
В воспоминаниях Г. К. Крыжицкого об Анатолии Федоровиче Кони описывается случай, происшедший с этим выдающимся юристом. «Кони возвращался как-то поздно ночью из здания окружного суда домой <...> На углу одного из переулков к нему подходит какой-то довольно прилично одетый господин и предлагает купить у него трость с золотым набалдашником. Это часа в два ночи! <...> Затягивая разговор с незнакомцем..., Кони решил дойти до ближайшего городового и там задержать мошенника. <...> Собеседник, опередив Кони, заявил блюстителю порядка, что вот этот «тип» (указующий жест на Кони) собирался-де всучить ему ворованную вещь <...> Городовой не стал даже слушать. Идем в участок, там разберут.
Пришлось на время забыть тезисы блестящей диссертации о неприкосновенности личности и отправиться под конвоем в часть. <...> Околоточный надзиратель и пристав опрашивали задержанных, проверяли бумаги, снимали показания, писали протоколы. Попытки Кони обратить на себя внимание властей предержащих привели только к тому, что начальство грубо его одернуло, предложив «знать свое место», и внушительно заявило, что, ежели он не угомонится, то его препроводят и в холодную. Убедившись в серьезной постановке дела в участке, Анатолий Федорович поневоле покорился судьбе и решил использовать случай для изучения методов работы ночной полиции. Наконец, под утро, совершенно сонный околоточный позвал его к столу, взял новый лист бумаги и, пуская из ноздрей струи дыма, начал допрос.
– Фамилия?
– Кони.
– Чухна?
– Нет, русский.
– Врешь. Ну, да ладно. Там разберут. Звание? Чем занимаешься?
– Прокурор Санкт-Петербуржского окружного суда.
Немая сцена... <...> Злополучного пристава чуть на месте тут же не хватил «кондрашка». Он умолял не губить жену, детишек. <...> Кони успокоил полицейских, заявив, что был рад на деле познакомиться с обстановкой и ведением дела в учреждениях, подведомственных министерству внутренних дел.
– Хотелось бы только побольше свежего воздуха и ... вежливости, – добавил он, насмешливо улыбаясь» (129, 433–434).
Примеров попрания законов и умаления достоинства личности в российской истории более чем предостаточно. Государство широко применяло карательную практику, но исправлять свои ошибки никогда не спешило. «Дворянина Морозова судили по подозрению в убийстве товарища. Он был невиновен, и ему удалось оправдаться. Но вскоре на него свалилось другое дело. Его обвинили в убийстве баронессы Розен, скрывшейся без вести. Улик было мало. Поэтому уголовная палата постановила выслать только Морозова на родину с запрещением въезда в столицу и оставить его под сильнейшим подозрением. Но Высочайше было приказано «дать Морозову в тюремном замке 4000 шпицрутенов и сослать на 4 года в арестантские роты, а потом на поселение». Приговор был исполнен. Вдруг мнимоубитая баронесса разыскалась. Она оказалась жива и невредима. Морозов отбывал в это время в ротах последний год. Палата представила на Высочайшее Имя ходатайство об его помиловании и вознаграждении за безвинное наказание. На это последовало решение: «для Морозова сделать ничего не могу, потому что здесь видна рука Провидения. Если он не виновен в убийстве баронессы Розен, то по всей вероятности виновен в убийстве своего товарища. От арестантских рот немедленно освободить и выслать на казенный счет на родину» <...>
Судебные приговоры изобиловали телесными наказаниями:
«Секретарь дела обделывал.
Разрешал бить иль не бить», – метко выразился какой-то поэт про юстицию николаевского периода (имеется в виду Николай I. – Авт.) (106, 116–117).
Местная власть в России имела широкие, если не сказать неограниченные, полномочия и власть над «своими» подданными, что давало возможность для злоупотреблений. «До царя далеко, а до Бога высоко», поэтому «начальствующие лица не прекращали своих буйств» (106, 159). «В Тамбовской губернии в 30-х годах XVIII ст. свирепствовали воровские шайки. Для водворения порядка правительство отправило туда воинские команды под начальством Ребрикова. Однако вместо защиты жителей «те Донские казаки делали озорничество, ознобляли народ на морозе и забивали многих плетьми и саблями до смерти», иных привешивали к столбам и оставляли так висеть целыми днями. Тех смельчаков, которые решались отправиться с доносом, правители подвергали жестокому наказанию. В 50-х годах того же века насильничал в Белграде воевода Морозов. Несколько купцов донесли на него, что он похищает казенное добро. За это воевода бил жалобщиков батогами и резал некоторым носы» (106, 159).
Жаловаться властям на власти – в России дело бесперспективное. И даже если представителя власти наказывали, то это не шло ни в какое сравнение с его преступлениями. «Насильничание и издевательство над жителями не считалось правительством за особое преступление. Согласно своим гуманным воззрениям, Екатерина II подвергала виновного жестокой каре, но лишь на бумаге: – никто не считал нужным приводить в исполнение этот приговор. Подобные истязания в те времена считались чуть ли не в порядке вещей. Сам сибирский губернатор Шеншин следующим образом мучил польских конфедератов, которым еще на родине, т. е. до ссылки, отрезали уши и носы: – их привязывали, по приказанию Шеншина, к длинным, толстым, круглым деревянным колодам, по несколько человек вместе, и сбрасывали с Тобольского кремля. «Обрубок, катясь с высокой горы, разбивал несчастным головы и на лучший конец сокрушал кости» (106, 163).
Российский мир выработал систему обращения с властью через ходоков. Как правило, это были старики, у которых уже не имелось родственников, и они находились на попечении общины. Ходоки играли роль «симптомов зреющего недовольства» в массах. Классический литературный пример «самого древнего в целом городе человека, Евсеича», которого мир «просил послужить», дан М. С. Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города» (235, 347). <...> «Не успел он порядком рот разинуть, как бригадир, в свою очередь, гаркнул: «Одеть дурака в кандалы!» Надели на Евсеича арестантский убор и, «подобно невесте, навстречу жениха грядущей», повели, в сопровождении двух престарелых инвалидов, на съезжую. <...> С той минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было, исчез без остатка, как умеют исчезать только «старатели» русской земли (235, 348).
Вернемся еще раз к Соборному уложению, которое под страхом наказания запрещает обращаться с челобитными к царю, минуя соответствующие учреждения. Челобитчикам грозило наказание батогами, для именитых – неделя тюремного заключения, без физического воздействия. Правовое лицемерие – составная часть российского ментального мира – всех слоев общества. Ярким образцом был «Наказ» Екатерины II. «Статья 194 «Наказа» гласила: Человека неможно почитати виноватым прежде приговора судейского, и законы не могут лишить его защиты своей прежде, нежели доказано будет, что он нарушил оные. Чего ради какое право может кому дать власть налагати наказание на гражданина в то время, когда еще сомнительно, прав ли он или виноват. Не очень трудно заключениями дойти в сему соразсуждению: преступление или есть известное или нет; ежели оно известно, то не должно преступника наказывать инако, как положенным в законе наказанием; и так пытка не нужна; если преступление неизвестно, так не должно мучить обвиняемого, по той причине, что не надлежит невинного мучить. И что по законам тот не виновен, чье преступление не доказано» (286, 720).
Екатерина II отменила телесные наказания только для представителей привилегированных слоев общества. Всех остальных нещадно наказывали даже за мелкие провинности. «Известно, например, что крепостного человека прославленной Салтычихи, содействовавшего раскрытию злодеяний, Сенат приговорил к кнуту за ложный донос ввиду того, что он неверно назвал имя одной из замученных жертв помещицы» (106, 77). Любимцем царицы Екатерины II был начальник Тайной экспедиции Степан Иванович Шешковский, который собственноручно порол только знатных россиян. Со всех он брал подписку (кто не испустил дух от порки), что они нигде и никому не расскажут, что с ними произошло в Тайной экспедиции. Радищев, после допросов у Шешковского, признал, что написал свою книгу «по сумасбродству».
В ноябре 1775 года Екатерина II подписала «Учреждения для управления губерний» – документ необычайно интересный во всех его частях, но особенно примечателен главой «О должности государева наместника». Три статьи наиболее ярко характеризуют «правовое лицемерие». Статья 82: «Государев наместник не есть судья, но оберегатель императорского величества изданного узаконения, ходатай в пользу общую и государеву, заступник утесненных и побудитель безгласных дел. Словом сказать, нося имя государева наместника, должен он показывать в поступках своих доброходство, любовь и «соболезнование к народу».
Статья 84: «Как государеву наместнику благочиние, или полиция градская и сельская подчинены, то он имеет право пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать излишества, безпутства, мотовство, тиранство и жестокость».
Статья 85: «Государев наместник должествует вступаться за всякого, кого по делам волочат, и принуждать судебные места своего наместничества, решать такое то дело, но отнюдь не мешается в производство оного; ибо он есть яко хозяин своей губернии, а не судья» (223, 182).
Наместники четко усвоили, что они «хозяева в своих губерниях и творили все, что душе было угодно. «Губернатором в Костроме был генерал-майор К-й, известный под прозвищем Иван Грозный <...> отличительной чертой сего начальника было пристрастие к помпадуршам. Ежедневно в 12 часов дня он отправлялся к своей даме, а в 3 часа возвращался обратно. В это время никто не смел попадаться ему навстречу; полиции был отдан строгий приказ следить за этим. Однажды недоглядели; какой-то шальной крестьянин тащился по улице во время проезда губернатора. Разгневанный «Иван Грозный» сейчас же от помпадурши послал за полицмейстером и у нее же произвел над мужиком собственноручную расправу» (106, 174).
О каком праве человека, о суде можно говорить? «В некий город Карпунск <...> был назначен прогрессивный свободомыслящий начальник. Его деятельность с первых же шагов ознаменовалась грандиозной поркой кучеров» (106, 174–175).
«Характерен для административных расправ того времени следующий инцидент. В царствование Николая I один полицейский чиновник, проходя мимо окон какого-то магазина, услыхал, как ругаются продавщицы. Виновниц в нарушении тишины он потащил в участок и всыпал каждой 25 розог. Девушки пожаловались хозяйке, которая отправилась по этому поводу объясняться в полицию. Результат этого посещения был тот, что продавщиц выдрали вторично. Энергичная дама пожаловалась высшему начальству. Тогда, чтобы отвязаться от надоедливой женщины, ее самое высекли» (106, 176).
В главе «Зайцево» Радищев описывает случай, когда сыновья помещика изнасиловали накануне свадьбы молодую крестьянку. Жених вступился за честь невесты и свою честь. На помощь ему пришли односельчане. Отец насильников в драке был убит. Убийство есть убийство и по закону должно подлежать наказанию. Радищев рассуждает о природе закона, права, справедливости. «Человек рождается в мир равен во всем другому. <...> Собственно, человек без отношения к обществу есть существо, ни от кого независящее в своих деяниях. Но он кладет оным преграду, согласуется не во всем своей единой повиноваться воле, становится послушен велениям себе подобного, словом, становится гражданином, <...> где нет его пользы быть гражданином, там он и не гражданин. Следственно, тот, кто возжелает его лишить пользы гражданского звания, есть его враг. Против врага своего он защиты и мщения ищет в законе. Если закон и не в силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния. Ибо гражданин, становяся гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность <...> есть собственная сохранность, защита, благосостояние. Убиенный крестьянами асессор нарушил в них право гражданина своим зверством» (228, 107–108).
Последующие судебные реформы существенных изменений не приносили, законы рождались не для улучшения судопроизводства и следствия, не для защиты личности гражданина, а для самого закона. В Своде законов от 1832 года и Уложении о наказаниях 1845 года запрещено было применять пристрастные допросы обвиняемого, истязания и мучения, но в то же время этот же закон предписывал «стараться обнаружить истину через тщательный расспрос и внимательное наблюдение и соображение слов и действий подсудимого». Свод демонстрирует «правовое лицемерие», декларирует стремление оградить граждан от произвола. Так, статья 1220 гласила, что приговор должен быть основан «на точном разуме законов, а не едином лишь судейском рассуждении». Если не хватало доказательств для осуждения или «ежели же на что приличных законов нет», то применялся третий вид приговора – оставление в подозрении, что давало возможность высылать из городов «на родину» под надзор полиции. Но общество мещан или крестьян не могло принять в свою среду осужденного по этому приговору, и как следствие его ссылали в Сибирь.
Пересмотр дела предусматривал его прохождение через множество инстанций, что рождало волокиту. «Она еще более усиливалась тем, что закон допускал отдельное рассмотрение рядом высших инстанций жалоб по частным вопросам дела. Очень часто решение судом высшей инстанции частного вопроса влекло обращение всего производства в низшую инстанцию, а затем дело опять восходило во все высшие инстанции. При таком порядке производства мало-мальски сложные дела тянулись не только годами, но и десятилетиями.
Приведем пример из множества подобных, характеризующих невероятную волокиту и громоздкость производства по уголовным делам в дореформенном суде. Дело о краже из московского уездного казначейства медной монеты на сумму 115 тыс. руб., возникшее в 1844 году, закончилось только в 1865 году» (286, 743).
У судебной системы было достаточно много пороков, но некоторые из них особенно характерны для дореформенного суда, впрочем, только ли для дореформенного. Во-первых, множественность судебных органов и запутанность процессуальных требований, невозможность определить круг дел, которые должны подлежать рассмотрению того или иного дела, что порождало волокиту. Во-вторых, взяточничество. Это явление, наряду с невежеством и произволом судейских чиновников, приобрело всеобщий размах, что даже самые ярые сторонники самодержавия, противники реформ были вынуждены признать, что взяточничество везде и всюду разрушает государственную структуру. Низкая общая грамотность судей, не говоря уже о грамотности юридической, обусловила концентрацию всего дела правосудия в руках канцелярских чиновников и секретарей. «Председатели палат уголовного и гражданского судов получали 1500 руб. в год, а заседатели их – 300 руб., тогда как вице-губернатор получал 2500 рублей, управляющий казенной палатой – 4400 рублей, столоначальники уездных учреждений, в том числе и судов, получали от 8 до 12 рублей, а канцелярские чиновники от 3 до 7 руб. в месяц» (286, 743).
В-третьих, господствовала инквизиционная (розыскная) форма судопроизводства. Доказательства оценивались по формальной системе, при которой их сила заранее определялась законом, твердо устанавливающим, что может, а что не может быть доказательством. Доказательства делились на несовершенные и совершенные, которые давали основание для окончательного приговора и не могли быть опровергнуты подсудимым. Но «царицей» доказательств было признание (сознание): «когда кто признает, чем он виновен есть, тогда далнего доказу не требует, понеже собственное признание есть лутчее свидетелство всего света» (223, 415). Подсудимый должен был подтвердить признание перед судьей, «ибо вне суда учиненное признание не имеет за действително признано быть (223, 415). А для признания всегда широко и повсеместно применялась пытка, формально запрещенная в 1801 году, просуществовавшая до середины XIX века. К слову сказать, неофициально существующая и до сих пор.
Обратимся за примером работы выездного суда к Н. В. Гоголю: «Был управитель <...> из немцев, молодой человек. По случаю поставки рекрут и прочего имел он надобность приезжать в город и, разумеется, подмазывать судейских. <...> Вот как-то один раз у них на обеде говорит он: «Что же, господа, когда-нибудь и ко мне, в имение к князю». Говорят: «Приедем». Скоро после того случилось выехать суду на следствие, по делу, случившемуся во владениях графа Трехлитьева <...> Самого-то следствия они не делали, а всем судом заворотили на экономический двор, к старику, графскому эконому, да три дни и три ночи без просыпу – в карты <...> Старику-то они уж и надоели. Чтобы как-нибудь от них отделаться, он и говорит: «Вы бы, господа, заехали к княжому управителю-немцу: он недалеко и вас ждет». А и в самом деле, – говорят, – сполупьяна, небритые и заспанные, как были, на телеги да к немцу... А немец <...> в это время только что женился. <...> Сидят они двое за чаем, ни о чем не думая, вдруг отворяются двери – и вваливается сонмище. <...> Управитель так и оторопел, говорит: «Что вам угодно?» – «А! говорят, так вот вы как!» И вдруг, с этим словом, перемена лиц и физиогномии... <...> Взяли, связали – да в город, да полтора года и просидел немец в тюрьме. <...> Спасибо, что случились добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Отделался он двумя тысячами да угостительным обедом. И на обеде, когда все уже развеселились, и он также, вот и говорят они ему: «Не стыдно ли тебе так поступить с нами? Ты все бы хотел нас видеть прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит» (92, 524–525).
Дореформенный российский суд основывался на законодательстве Петра I и Екатерины II, в случае невозможности подыскать какую-то статью закона применялись даже нормы Соборного уложения 1649 года.
В 1857 году в Государственный совет был внесен проект реорганизации гражданского судопроизводства. С этого времени идет отсчет подготовки судебной реформы.
Нет необходимости подробно излагать суть самой судебной реформы. Но есть целесообразность остановиться на одном из ее элементов – введении института адвокатуры.
До адвокатов в современном смысле этого термина были ходатаи по делам. «Таких адвокатов, – говорит П. А. Потехин, – называли ябедниками, кровопийцами, чернильными душами, но самое меткое название было «крапивное семя». В этом названии сказался русский человек, легко и метко отыскивающий клички. Действительно, крапива растет на всяком мусоре, около заборов, не нуждается в хорошей почве, очень раскидиста, имеет довольно хорошую зелень, но соприкосновение с нею опасно, она так жжет, колет и оставляет такие занозы, что сравнение подобных адвокатов старого времени с крапивным семенем совершенно верно» (116, 13).
Очень метко характеризует таких адвокатов Салтыков-Щедрин. «А таков этот человек, что все ходы и выходы знает! Одно слово, прожженный! – успокоил Пахомыч. Оказалось на поверку, что «человечек» – не кто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы «за трясение правой руки», каковому трясению состояла причина в напитках. <...> Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левою» (235, 349). Занятие стряпничеством стояло на самой низкой ступени в общественном представлении. Об отношении к «адвокатам» ярко пишет Н. В. Гоголь в «Мертвых душах»: «...вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. (Чичиков. – Авт.). И в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, еще не приобретшим у нас гражданства, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на пресмыкание в передних, грубости и прочее, но судьба заставила решиться на все» (92, 484).
Система судопроизводства сама порождала таких стряпчих. «У нас нет адвокатуры в западном смысле этого слова, – писал А. В. Лохвицкий в 1860 году. – Свод Законов, давая каждому право быть поверенным, уничтожил существовавший в Древней Руси цех поверенных (площадных подьячих). Но на факте у нас существуют эти цехи. <...> Одни – прямые наследники подьячих старого времени – они берут по двугривенному и штофу водки за сочинение просьбы, по пяти и десяти целковых за фальшивый паспорт; есть у них и такса за фальшивое свидетельство, за фальшивую подпись и т. д. <...> Что ни делало наше законодательство со времен Петра Великого против них, все осталось бесплодным, потому что они естественное следствие закрытого и письменного судопроизводства, суда по одной букве закона, отсутствия всякой гласности в судопроизводстве, отсутствия установления правильной адвокатуры. <...> Есть и другой род частных поверенных – аристократический. Это люди с приличными манерами, хорошо одевающиеся, берущие за составление бумаг по нескольку сот рублей <...> Они презирают дешевых подьячих, хотя часто обращаются к ним для кое-каких проделок. Они украшают себя громким именем адвокатов <...>, самый невинный недостаток которых состоит в том, что они в одно и то же время пишут бумаги и истцу и ответчику и, конечно, с обоих берут деньги» (116, 17–18).
Жизнь настоятельно требовала введения адвокатуры, гласности и состязательности в суде, что, безусловно, очистило бы институт правосудия, хотя бы частично, от многих пороков. Необходимость нововведения никем не оспаривалась, но и не отстаивалась при подготовке реформ.
Власть питала органическое предубеждение против адвокатуры. «В преданиях о посещении Петром Великим Англии в 1689 г. сообщается, что, «посетив Вестминстер-Холл (суд), Петр увидел там «законников» т. е. адвокатов, в их мантиях и париках. Он спросил:
– Что это за народ и что они тут делают? Это все законники, Ваше Величество.
– Законники! – удивился Петр. – К чему они. Во всем моем царстве есть только два законника, и то я полагаю одного из них повесить, когда вернусь домой» (116, 29).
Предубеждение против адвокатуры было хроническим у русских самодержцев. Екатерина II считала, что адвокаты, сообразуясь с тем, кто и как им заплатил, защищают то правду, то ложь, справедливое и несправедливое. Николай I был ярым противником адвокатуры – «пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты. Проживем и без них (116, 30). О необходимости введения адвокатуры писал А. С. Пушкин в «Истории пугачевского бунта»: «Падуров, как депутат, в силу привилегий, данных указом, не мог ни в коем случае быть казненным смертию. Не знаю, прибегнул ли он во время суда к защите сего закона; может быть, он его не знал, может быть, судьи о том не подумали; тем не менее казнь сего злодея противу закона. Вот один из тысячи примеров, доказывающих необходимость адвокатов» (116, 30). Это примечание было вычеркнуто цензурой.
Не таким как в России, но тоже неприязненным было отношение к адвокатуре и в стране, которая во многом служила России примером – Франции. Наполеон I был противником проекта реорганизации адвокатуры. Максимилиан Робеспьер, будучи сам адвокатом, резко выступал против представителей своего цеха. Сложилось устойчивое мнение, что потрясения во Франции были вызваны деятельностью адвокатов. Их ненавидели как монархи, так и республиканцы. Последние за то, что адвокаты Мальсерб, де Сез, Шово-Делагард защищали в суде королевскую чету – Людовика XVI и Марию Антуанетту. Один из защитников был казнен, другие бежали. «Пора, – так прямо и говорилось в обвинительном акте, – чтобы защитник вдовы Капета сложил свою голову на том же эшафоте» (116, 31). Эти слова диктовал адвокат Робеспьер.
Отношение со стороны властей было прозрачным, общество же и приветствовало, и сомневалось, что адвокатура сможет уменьшить зло в суде.
Адвокат по своему положению должен вести любое дело, что вызывало сомнение в его стремлении к справедливости, «Знаменательным образцом может служить статья П. С-ва в «Русском Вестнике». Допуская адвокатуру в уголовный процесс, ибо там собственно нет двух сторон с противоположными интересами», автор находит, что «наличность такой противоположности в гражданском процессе исключает возможность допущения здесь адвокатуры. Только одна из двух сторон может иметь добросовестного адвоката. Строгая последовательность требовала бы предания уголовному суду адвоката неправой стороны, в случае потери ею тяжбы, за безнравственное и умышленное покушение нарушить право, принадлежащее справедливой стороне. Как согласить такое требование строгой и абсолютной справедливости с обязанностью, налагаемой самим государством на адвокатов, им же поставленных, нарушать эту справедливость в половине всех случаев, доверяемых их защите?» (116, 34-35).
Между постреформенным судом и постреформенной адвокатурой отношения были крайне неприязненные. Суд оставался инструментом власти, а не Закона, особенно если перед ним стояла задача вынести обвинительный приговор. «На одном большом процессе председатель наперед объявил защитникам, что он не допустит никого из них делать замечания по поводу происходящих в суде действий, а также не допустит заявлений и ходатайств о занесении в протокол об этих действиях и его, председателя, распоряжений. «Такое заявление, – говорит В. Д. Набоков, – прямо нарушило права защиты, гарантированные ей ст. 630 Устава уголовного судопроизводства» (116, 353). Но это еще не худший вариант взаимоотношений.
Присяжный поверенный С. Е. Кальманович защищал в Тамбовском военном суде лиц, обвиненных в убийстве генерала Богдановича. Во время заседания его вызывали в коридор и объявили, что он арестован. Он вернулся в зал и объявил об этом председателю. Подсудимый заявил, что не может остаться без защитника. Суд в совещательной комнате вынес резолюцию об освобождении С. Е. Кальмановича от обязанностей защитника, после чего тот был арестован и просидел в тюрьме свыше месяца без предъявления обвинения. Суд же вынес обвиняемому приговор, генерал-губернатор отказал в праве подачи кассационной жалобы, и смертный приговор был приведен в исполнение.
В Иркутске был арестован весь состав Совета присяжных поверенных. За речь в суде было возбуждено уголовное дело против адвоката Гиллерсона. Он был приговорен к заключению в крепость на один год.
Прервем немного время и переместимся в современность. В 90-х годах XX века во многие процессы не допускались журналисты, хотя процессы были открытые. В Ростове-на-Дону судья Советского суда Д. удалила из зала корреспондента газеты «Приазовский край» В. Мурину, которая собиралась писать о гражданском деле. Судья потребовала у нее специального разрешения, не обратив внимания на редакционное удостоверение.
Заместитель председателя Нижегородского областного суда П. потребовал от журналистов аккредитации на процессе в десятидневный срок.
Особого внимания заслуживает сюжет с участием заместителя председателя Московского арбитражного суда Н. Он интересен и необычен не только содержанием (группа журналистов разных изданий не была допущена на заседание), сколько утверждением, высказанным Н. В ответ на замечание журналистов о незаконности и неконституционности действий судьи, ограничившего право на посещение судебных заседаний, Н. заявил: «Не надо нам говорить о Конституции, у нас в стране ее все нарушают».
Журналиста Липецкой газеты «Панорама» М. Гольдмана удалял из зала суда милиционер, который, поощряемый судьей, обращался к журналисту на «ты» и обещал «посадить его куда надо». До этого журналист обращался с письменным запросом разрешить ему присутствовать в зале и вести запись.
Действия судей нередко поддерживают прокуроры, хотя они призваны осуществлять надзор за соблюдением законности.
Статья 123 Конституции РФ, статья 10 ГПК РФ, статья 15 УПК РФ, статья 9 АПК РФ устанавливают, что заседания во всех судах России открытые. Это означает, что любой человек, в том числе и журналист, может присутствовать на заседании суда. Для этого не требуется получение какого-либо разрешения (247, 183–186).
Вернемся в начало прошлого века. Самым громким скандалом был судебный процесс, инициированный властями против присяжных поверенных, поддержавших своих коллег, участвовавших в деле Бейлиса. 23 октября 1913 года в Питере состоялось общее собрание присяжных поверенных. На нем было предложено принять резолюцию в поддержку своих коллег в Киеве. После дебатов адвокаты приняли резолюцию и отправили телеграмму, что вызвало резкий протест со стороны магистратуры и прокуратуры. Прокурор Судебной палаты затребовал все документы по этому совещанию. Стали выяснять: кто голосовал, законно или нет голосование и т. д. Судебная палата в стремительном темпе готовила дело. Суду было предано 25 адвокатов. Их обвиняли в том, что в резолюции было якобы «наглое обвинение государственной власти в извращении основ правосудия (в тексте резолюции этого не было), что участники собрания вели «недостойную» агитацию. 3 июня 1914 года в Петроградском окружном суде началось слушание дела. Окружной суд признал всех обвиняемых виновными, выделил двух и приговорил их к 8-месячному тюремному заключению, остальным назначил полгода тюрьмы. Осужденные адвокаты были в центре внимания либеральной общественности со всеми вытекающими отсюда последствиями: приветственные телеграммы, банкеты, статьи в газетах и т. д.
Резолюция коллегии адвокатов Санкт-Петербурга была следующего содержания: «Пленарное заседание членов коллегии адвокатов Санкт-Петербурга считает своим профессиональным и гражданским долгом поднять голос протеста против нарушения основ правосудия, выразившихся в фабрикации процесса Бейлиса, против клеветнических нападок на еврейский народ, проводимых в рамках правопорядка и вызывающих осуждение всего цивилизованного общества, а также против возложения на суд чуждых ему задач, а именно сеять семена расовой ненависти и межнациональной вражды.
Такое грубое попрание основ человеческого сообщества унижает и бесчестит Россию в глазах всего мира. И мы поднимаем наш голос в защиту чести и достоинства России» (127, 60–61).
Дело Бейлиса резко критиковал редактор консервативного органа печати «Киевлянин» антисемит по политическим взглядам В. Шульгин. За свою позицию он получил восемь месяцев тюремного заключения. «Поскольку в новом Уголовном кодексе 1903 года не было статей, относящихся к нашему «преступлению», нам вынесли обвинительный приговор согласно статье 279 Закона времен Екатерины II за распространение «клеветнических» анонимных писем. <...> Н. Д. Соколов, как один из основных авторов, и я (А. Ф. Керенский. – Авт.), как инициатор принятия резолюции, были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения и лишению прав быть куда-либо избранным» (127, 61).
Копируя французскую систему судопроизводства, российское правительство предчувствовало, что суд присяжных станет местом противоборства. Вот что пишет о суде присяжных К. П. Победоносцев: «Можно себе представить, во что обращается это правосудие там, где, в юном государстве, нет и крепкой руководящей силы, но взамен того есть быстро образовавшаяся толпа адвокатов, которым интерес самолюбия и корысти сам собою помогает достигать вскоре значительного развития в искусстве софистики и логомахии для того, чтобы действовать на массу; где действует пестрое, смешанное стадо присяжных, собираемое или случайно, или искусственным подбором из массы, коей недоступны ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу факторов, требующих анализа и логической разборки; наконец – смешанная толпа публики, приходящей на суд, как на зрелище, посреди праздной и бедной содержанием жизни; и эта публика, в сознании идеалистов, должна означать народ. Мудрено ли, что в такой обстановке оказывается тот же плачевный результат, на который указывают <...> слова Чарльза Мэна: «присяжные слепо тянут со своим вердиктом на сторону того или другого адвоката, кто сумеет на них подействовать» (215, 116). Отношение к суду присяжных в царской России было как к суду толпы, у большевиков – как к буржуазному суду. Возрождение и становление этого судебного института в настоящее время проходит не без сложностей.
Кроме введения института адвокатуры, суда присяжных судебная реформа 1864 г. генерировала достижения мировой юстиции, в частности мировой суд. Низшие дореформенные суды находились в ведомстве полиции и строились исключительно по принципу сословности. Еще в 1827 году граф Кочубей высказал мысль об учреждении в уездах «мирных судов». При выборе модели российские законодатели ориентировались на Англию и Францию. «Следуя традициям английского права, российская юстиция подразделялась на мировую и общую, каждая при этом имела особую организацию и независимую сферу деятельности. Из французского права составители уставов взяли идею единой и для мировых, и для общих судов кассационной инстанции. В лице мировых судей законодатель стремился создать суд, рассматривающий маловажные дела и отвечающий таким требованиям, как доступность, разветвленность, быстрота, единоличие рассмотрения дел. Высшей целью этих судов признавалось примирение сторон» (296, 79). Институт мировых судей улучшил общее положение дел в низших судах, изменил инквизиционный характер судопроизводства, поскольку судьи избирались. 12 июля 1889 года, за исключением столиц и ряда крупных городов, мировые суды были упразднены, им на смену пришли судебно-административные установления: в первой инстанции – земские участковые начальники и городские судьи. Окончательно мировой суд был отменен после 1917 года.
Реформаторы судебной системы постоянно боролись за упрощение судопроизводства, сокращение сроков рассмотрения дел, гласности и справедливости при вынесении решения. Одним из теоретиков идеального государства был Томазо Кампанелла (1568–1639), протестовавший против средневековой судебной волокиты и юридического крючкотворства. Образцом протеста была глава «О судопроизводстве и судьях» в его знаменитом труде «Государство Солнца».
«Каждый гражданин непосредственно судится учителем данной специальности. Поэтому в каждой отдельной отрасли производства начальствующие являются судьями всех своих подчиненных, они могут наказать человека изгнанием, присудить его к ударам, удаляют провинившихся от общественного стола, запрещают им посещать храм и иметь общение с женщинами» (140, 100). В судопроизводстве господствовал принцип возмездия (lex talionis) – око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. Смягчающим обстоятельством служила неумышленность. Можно было апеллировать к Метафизику (Солнцу) на уменьшение наказания, о помиловании, но не об отмене наказания. Тюрем в государстве Солнца нет, кроме одной башни, где отбывают срок бунтовщики и военнопленные.
Письменных жалоб нет. Жалоба приносится судье устно, тот опрашивает свидетелей, берет показания у обвиняемого и тут же выносит приговор. В зависимости от вины и приговор. «Признанный виновным в этом случае должен помириться с обвинителем и свидетелями, причем он целуется и обнимает их, как врачей, исцеливших его от недуга» (140, 101).
В государстве нет палачей, осужденный на казнь получает смерть только от руки народа (отсечение головы мечом или забивание камнями), при казни обвинители и свидетели должны подавать пример. Иногда осужденный получает право самому лишить себя жизни. Приговор по такой смертной казни не исполнялся до тех пор, пока сам осужденный не решит, что смерть его необходима. «Если совершено преступление против свободы общества, против Бога или высшего начальства, то казнь следует за ним немедленно, без всякого помилования (140, 103). Проступки или незначительные правонарушения, совершенные в силу незнания или слабости характера, наказываются только выговором.
Очень строго следили солярии (граждане государства Солнца. – Авт.), чтобы никто не сделался жертвой клеветы. Клеветник наказывается по закону возмездия, той карой, которую он готовил оклеветанному.
Солярии всегда находятся в группе, поэтому всегда есть свидетели, которые могут подтвердить или опровергнуть показания. Законы короткие, ясные и немногочисленные выбиты на медных табличках, развешаны на столбах в храме так, чтобы каждый мог их прочитать и запомнить. «На отдельных столбах помещены определения сущностей вещей в очень кратком, метафизическом стиле, именно о том, что такое Бог, ангелы, мир, звезды, человек, судьба, добродетель, <...> даны определения всех добродетелей, из которых каждая имеет своего судью; у каждого из них имеется свое кресло, именуемое трибуналом, под тем столбом, где охарактеризована эта добродетель, нарушение которой он судит» (140, 104).
Томазо Кампанелла выступал против средневекового суда, большевики – против буржуазного. В 1917 году была отменена вся система судопроизводства декретом № 1, установившим новую систему судебных органов в виде местных судов, состоящих из судьи и двух заседателей, и ревтрибуналов, образуемых в составе одного председателя и шести заседателей.
«Революционные трибуналы были учреждены «для борьбы против контрреволюционных сил, а также для борьбы с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и пр. лиц» (210, 283). Пролетариат, взявший власть, разрушил материальную и процессуальную юридическую надстройку свергнутых правительств – царского и Временного, «Октябрьская революция стерла все написанные раньше законы, изгнала всех прежних защитников имущего класса, судей и законодателей, со всеми их организациями и расчистила место для юридической надстройки победившего класса» (210, 283).
Но Нечто на пустом месте и из Ничего не рождается. В основе большевистского законотворчества все же лежали традиции всемирной юриспруденции – нормы бытового права, обычая, понятия справедливости. При принятии решения использовался принцип ad hoc (букв. с лат. «к этому», к данному случаю, для этой цели). Поскольку Свод Законов Российской империи был отменен, рождалось окказиональное право, нормы которого исходили из революционной целесообразности. «Не надо забывать, что не только начало работы НКЮ (Народный комиссариат юстиции. – Авт.) по контролированию судебных решений, но и полтора года уже органической деятельности высшего судебного контроля приходится на то время, когда не только судопроизводство, но и материальное право не было облечено в форму писаного закона, суды в значительной степени были предоставлены самим себе и своему социалистическому правосознанию и наряду с решениями, где можно уловить новое миропонимание, принесенное революцией, приходится констатировать наличность большого числа решений, где чувствуется неизжитое прошлое и определенное неумение отойти от установлений и привычек старого дореволюционного права (210, 287). На первых порах судьям разрешалось применять старые законы, к примеру, в области уголовного права, если они не противоречили революционному социалистическому правосознанию. «Правосознание» применялось при вынесении таких приговоров: в Петрограде за появление в пьяном виде в мастерской рабочий был приговорен к 15 годам лишения свободы, а группа молодых насильников в Поволжье приговорена к аресту на 3 месяца». (Изнасилована была поповская дочка.)
Основной Закон молодого государства – Конституция РСФСР, принятый 10 июля 1918 года, состоял из 90 статей, где суду не нашлось места. Впрочем, что и понятно, тогда были другие заботы. Но несколько позиций, на которых зиждилось революционное правосознание, определены четко.
Статья 3: «Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров...»
Статья 23: «Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, РСФСР лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции».
Статья 56: «В границах своего ведения съезд Советов (областной, губернский, уездный, волостной) есть высшая в пределах данной территории власть, в период же между съездами такой властью является Исполнительный комитет» (141, 197–198, 201, 207).
Окказиональное право, «не облеченное в форму писаного закона», носило черты работы административного наркомата в период военной борьбы Республики Советов в окружении врагов. Создавались судебные органы, деятельность которых согласовывалась с основным принципом пролетарской диктатуры. Старые виды преступлений не уменьшились, но появились новые виды преступлений – против власти рабочей диктатуры, наказания за которые не вытекали из старых законов. «Во многих местах деятельность судов, как и большинства учреждений старого режима, была прекращена силой восставшего народа; гражданские правоотношения, хотя в изменившемся виде, требовали судебного разрешения споров, из них возникавших, особенно на почве обострившихся отношений по применению наемного труда и в области жилищной; на почве неудовлетворенной потребности в правовой охране новых отношений возникали самосуды, дававшие выход законным чувствам освободившихся народных масс против угнетателей, но грозившие в своем развитии серьезно повредить устанавливающемуся правопорядку» (210, 283). Перед НКЮ и республикой Советов стояла двойная задача победить эксплуататоров и не дать стихии народного гнева разрастись, выйти за те пределы, когда остановить его уже невозможно. Были прекращены все старые дела, и суды рассматривали дела, «имевшие своим основанием явления текущего дня, и правоотношения, сложившиеся в результате революции» (210, 284).
Опыт первых месяцев работы новых судов нашел свое отражение при издании первого «Положения о революционных трибуналах» (12 апреля 1919 г.), к ведению которых была отнесена лишь определенная категория политических дел.
Кассационной инстанцией был губернский совет народных судей. Защита, обвинение и представительство сторон в гражданском процессе осуществлялись особыми коллегиями, члены которых избирались местными исполкомами Советов, которым, как известно, по статье 56 Конституции РСФСР 1918 года, принадлежала высшая власть в регионе. Трибуналы учреждались в губернских городах (состав: постоянный председатель и два члена, избираемых Советом или исполкомом). В соответствии с особым, специфическим, характером дел, подсудных трибуналу, судопроизводство в них было менее сложным, различные моменты процесса определялись самим трибуналом. В марте 1919 года подсудность дел для трибуналов была расширена. Кроме чисто политических трибуналы стали рассматривать дела о хозяйственных, должностных и т. п. преступлениях. Были созданы специализированные трибуналы: военные, военно-железнодорожные и др.
21 октября 1920 года опубликовано положение о народном суде. Сохранены принципы коллегиальности, выборности. Обвинение поддерживалось постоянными обвинителями при отделах юстиции, а защита возлагалась на граждан, способных исполнять эту обязанность, в порядке особой очередности, а также консультантами отделов юстиции. Судебные сборы и пошлина не взимались. В целях более быстрого прохождения дел о бесспорных нарушениях, не требующих расследования, были учреждены камеры народного суда.
На долю народных судов приходилось незначительное количество дел по одной простой причине: уголовные, политические и подпадающие под политические, многие хозяйственные дела рассматривались трибуналами, а гражданских дел было мало. К 1922 г. Наркомюст берет на себя функцию контроля за работой судов, «правильности судебных решений и отмены тех, которые грешили нарушением действующих декретов или основной линии политики рабоче-крестьянского правительства, что неизбежно связано с истолкованием истинной сущности законов. Судья от неопределенности границ свободного правосознания революционера и судейской совести социалиста-пролетария естественно перешел к обоснованию своих решений зафиксированными в точных выражениях писаными законами, формулирующими коллективное правосознание РСФСР и требующими единообразного по существу его истолкования» (210, 288).
С первых лет советской власти был заложен расплывчатый, но удобный для любого случая термин «социалистическое правосознание», который существовал вплоть до конца XX века. Статья 56 «Оценка доказательств» Гражданского процессуального кодекса РСФСР гласила (до 30 января 1995 г.): «Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении в судебном заседании всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и социалистическим правосознанием» (131, 23). Здесь необходимо обратиться к еще одному документу – Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР, утвержденному постановлением ВЦИК 15 февраля 1923 г. (официальный текст с изменениями на 1 февраля 1956 г.), в частности к статье 57 (глава 4 «О доказательствах»): «Суд не ограничен никакими формальными доказательствами, и от него зависит, по обстоятельствам дела, допустить те или иные доказательства или потребовать их от третьих лиц, для которых такое требование обязательно» (271, 16–17).
Блестяще изобразил процесс судопроизводства в России А. Н. Островский в пьесе «Горячее сердце»:
«Градобоев. <...> До Бога высоко, а до царя далеко. Так я говорю?
Голоса. Так, Серапион Мардарьич! Так, ваше высокоблагородие!
Градобоев. А я у вас близко, значит, я вам и судья <...> Как же мне вас судить теперь? Ежели судить вас по законам...
1-й голос. Нет, уж за что же, Серапион Мардарьич!
Градобоев. Ты говори, когда тебя спросят, а станешь перебивать, так я тебя костылем. Ежели судить вас по законам, так законов у нас много... (Сидоренко уходит и скоро возвращается с целой охапкой книг). Вон сколько законов! Это у меня только, а сколько их еще в других местах! Сидоренко, убери опять на место. И законы все строгие, в одной книге строгие, а в другой еще строже, а в последней уж самые строгие.
Голоса. Верно, ваше высокоблагородие, так точно.
Градобоев. Так вот, друзья любезные, как хотите: судить мне вас по законам или по душе, как мне Бог на сердце положит?
Голоса. Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарьич.
Градобоев. Ну ладно. Только уж не жаловаться, а коли вы жаловаться... Ну, тогда уж...» (196, 56–57).
Сместим опять пространство и время. Вернемся в дореволюционное прошлое, в сферу действия законодательства пореформенной России. Яркую картину отправления российского правосудия рисует Г. И. Успенский. «Из деревенских заметок о волостном суде» (1. Водка и честь). «Волостной суд. На улице и под сараем около волостного управления идет галдение и кое-где пьяный, а кой-где трезвый разговор. Пьяны, конечно, и судьи, а вследствие этого в каком-то амбаре, на том же волостном дворе <...> дерут по постановлению того же суда какого-то мужика. Один подгулявший, вялый от водки, и скучный от водки, и от водки чувствующий себя подлецом, мужик сидит на корточках у головы наказуемого; другой такой же вялый и тусклый от сознания пьяный подлости совершающегося мужик придерживает за ноги; и тот, кто лежит в это время на полу, – уткнувшись лицом в грязный пол, голосом сильного мужчины, в котором нелепость и подлость совершающегося пробудили рыдающие ноты детского плача <...> дудит и гулко и жалобно в пол: «Михал Михалчь! Н-ни ббудду! – «Не я, – говорит Михаил Михайлович, волостной старшина, за сопротивление которому происходит наказание, – не я, – а закон бьет тебя, дурака!» – «Дураков надо учить! – говорит, еле ворочая языком, один из судей; «Дураков и в церкви бьют!» – прибавляет другой. <...> высеченный мужик просит расписаться в журнале волостного суда кого-нибудь из грамотных, который и пишет после слов: «и сопротивлялся с дерзостью» – венчающую всю эту жестокую и позорную нелепость фразу: «остался доволен», что должно означать: «остался доволен этим позором и стыдом...» (272, 441–442).
Нагрузка на суды в прошлом веке была велика, а отсюда как следствие невнимание к рассмотрению дел. В газете «Русские ведомости» № 210 за 1885 год дается следующая информация: «Из статистических данных, приведенных г-ном Хрулевым в «Юридическом вестнике», явствует, что на долю каждого члена судебной палаты, средним числом, приходится тысяча двести дел в год. В одно заседание приходится выслушивать до ста дел и более, то есть более чем вдвое труд этот превосходит норму работы, которую можно требовать от трудолюбивого судьи. Легко представить себе, каково бывает изучение докладов и обсуждение дел при таких обстоятельствах!» (272, 396–397) <...> Судебная палата должна быть надежнейшей гарантией подсудимых, так как прокурорский надзор, поставленный всем складом своей профессиональной деятельности в невозможность вполне объективно относиться к делу, представляет довольно слабую гарантию (подсудимого)» Вот именно для того, чтобы специальность «обвинять» была введена в пределы справедливости, и учреждена особая инстанция – судебная палата, которая «одним почерком пера может смыть пятно с подсудимого или опозорить невинного человека преданием его суду». <...> «Палата санкционирует почти все проекты обвинительных актов и в доказательство того, что они прошли чрез канцелярию палаты, прикладывает свой штемпель» (272, 397). Дело «штемпелевания» всегда процветало и будет процветать в России. Каждый гражданин усвоил одно из многих золотых правил мудрости: «имей в нужных инстанциях нужных людей». И тогда твои проблемы в суде будут решаться в нужном направлении или «выдуваться». Вот, к примеру, что пишут «Терские областные ведомости» в № 59, а их корреспонденцию повторяют «Русские ведомости» в № 210: <...> Хасаф-юртовское полицейское управление поместило информацию о розыске дел, которые ветром выдуло – <...> стал дуть ветер, и прямо в полицейское управление, в окно; дунуло раз и выдуло следующие дела <...> за № № 30, 31, 116, 293, 1069, 1070, 1251 <...> И в другой раз дунуло из ущелья и опять унесло дела за № № 566, 711... и т. д. <...> и, наконец, сильным порывом выхватило из управления огромную переписку по делу князя Асланбека Айдемарова за № 2237 и все это унесло неведомо куда» (272, 398–399).
Суд как государственный институт решает государственные дела в интересах государства. Одна из судебных забот – взыскание податей. «Вот в каком виде осуществляется ими эта забота: «по решению глажевского волостного суда (Новоладожский уезд Петербургской губернии. – Авт.) приговорены к телесному наказанию, по 20 ударов, за неплатеж податей крестьяне следующих обществ: из 45 надельных домохозяев Подцоньевского общества приговорено к розгам 25 человек; Оломенского из 45 – 23 человека; Лаховского из 35 – 26 чел.; Гатицкого из 41 – 32 чел.; Меминского из 51 – 35 чел. и т.д. <...> И все эти приговоры постановлены в промежуток времени с 16 мая по 23 июня настоящего года» (1885) <...> Таким образом, в течение месяца из 517 домохозяев, населяющих волость, высечено 224 человека...» (272, 407–408).
Привычка к наказанию, точнее к неизбежности наказания, унижению телесному и душевному выработана веками российского общественного сосуществования. Насилие было, да и есть, та норма отношений, без которой немыслимо управление. Насилие в крайней степени выражения.
«Наказано 224 человека потому, что никто не привык справедливо и просто думать ни о своей нужде, ни о нужде ближнего. Наказанный человек освободился от тяжкого бремени; <...> его наказали, то есть дали ему право плюнуть на свои человеческие терзания, сделали совершенно ненужными его мысли о порядках и непорядках, прекратили в нем всякие совестливые душевные движения. Кто и что еще может от него требовать? Кто и в чем может его обвинять? У него на спине рубцы, он за все пострадал настоящим образом; ему теперь нельзя, невозможно не отдохнуть от всех своих мук и всего своего горя и, главное, от этих рубцов на спине: – и он отдыхает в кабаке...
<...> А чтобы совершить такое тупоумное дело, как порка 224 человек, нужно написать и составить 224 протокола, нужно исписать пропасть бумаги...» (272, 409–410).
Привычка к насилию, отношение к нему как к чему-то неизбежному, внутренне присущему российскому образу жизни находит отражение в законотворчестве и судопроизводстве. И считается вполне приемлемой социальной нормой. По своему предметному содержанию и объекту направленности различные проявления социального насилия делятся на политические, военные, экономические, духовные, административные (судебно-законодательные). Насилие (прямое или косвенное, опосредованное) происходит от латинского слова violentia и означает стихийное и неуправляемое проявление силы в противоположность понятию законного и нормального использования силы институтами государственной власти. «Насилие, по мнению В. Кагана, – специфический человеческий феномен. Это агрессия за пределами биологической целесообразности, которую отличает осознанное целеполагание. Нерв насилия – самоутверждение за счет другого. <...> Насилие – это когда возможность быть или становиться одного/одних утверждается за счет ограничения или уничтожения возможности быть и становиться другого/других... <...> В этом один из парадоксов насилия: совершивший его сам лишается свободы, становясь заложником собственного насилия (142, 63). СМИ, а суд это интуитивно чувствует, в этом пространстве проводят политику, а точнее, выполняют функцию информационного насилия. Предлагая свой взгляд на явление, событие, личность, СМИ насилуют субстанцию (сущность, событие) и т. д., подавая его отражение. Формирование взглядов читателя/зрителя именуется лукавым термином «воспитание», что в действительности представляет собой насилие. Судебная деятельность есть институционализированное использование силы, легальный акт применения силы. Суд – основной государственный институт легального применения силы, конституционализированного насилия, поскольку насилие есть не «некая абстрактная метафизическая категория, а вполне определенный, конкретно-классовый феномен...» (105, 11). Насилие в годы революции (вполне понятно) и впоследствии получает идеологическое оправдание и юридическое обоснование. Большевики, придя к власти, уничтожили старую законодательную систему и в годы революции пытались строить новую. Эта новая система, новой так и не стала. В основу кодексов уголовного и гражданского были положены все же старые нормы права. К примеру, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 1923 г. повторяет и даже в деталях совпадает с Уставом уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. Нам нет необходимости проводить сравнительный анализ текстов двух документов, поскольку направление нашей темы несколько иное. Но целесообразно сделать ряд замечаний. Законодательство РСФСР отличается от законодательства дореволюционной России своей жестокостью и широким диапазоном карательной практики. Есть необходимость привести полностью текст главы 33 УПК РСФСР (1956) «О расследовании и рассмотрении дел о террористических организациях и террористических актах против работников Советской власти».
Ст. 466. Следствие по делам о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти (ст. ст. 588 и 5811 УК) должно быть закончено в срок не более десяти дней.
Ст. 467. Обвинительное дело вручается обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде.
Ст. 468. Дела слушаются без участия сторон.
Ст. 469. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускается.
Ст. 470. Приговор к высшей мере наказания приводится в исполнение немедленно по вынесении приговора.
Глава 34. «О рассмотрении дел о контрреволюционном вредительстве и диверсиях»
Ст. 471. По делам о контрреволюционном вредительстве и диверсиях обвинительное заключение вручается обвиняемым за сутки до рассмотрения дела в суде.
Ст. 472. Кассационное обжалование по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 587 УК (вредительство) и 589 УК (диверсия), не допускается.
Ст. 473. Приговоры о высшей мере наказания (расстрела) приводятся в исполнение немедленно по отклонении ходатайств осужденных о помиловании» (271, 118–119).
«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...» «Новый мир» строился после кровавой Гражданской войны, когда общество было морально истощено в безумии войны. Официальной канонизированной государственной идеологией становился марксизм, принуждение было универсальным ключом решения всех социальных и политических проблем. А для применения любых форм принуждения в России имелись неограниченные возможности: духовно истощенное общество, в котором смерть перестала быть страшным явлением, богатая история насилия, поведенческая культура, построенная на прямом и косвенном насилии.
Пропагандистская машина (средства массовой информации) работала в усиленном режиме, убеждая общество, что страна переполнена контрреволюционерами, саботажниками, вредителями, злобствующими интеллигентами и т. д. Суд как правоприменительная инстанция реализует принятую законодательную базу, защищая экономические, политические, идеологические интересы господствующего класса.
У истоков утверждения режима революционной, социалистической законности стоял Николай Васильевич Крыленко (активный участник штурма Зимнего дворца, главком, прокурор республики, нарком юстиции). В суждениях Н. В. Крыленко, как и многих его товарищей по партии, были противоречия, колебания, которые впоследствии привели к репрессиям. От широкой демократизации судопроизводства к противоположной ориентации, что «требовать от судьи абсолютной объективности – чистейшая утопия», прерогативы защиты надо сузить, поскольку сам суд защищает обвиняемого; защита должна допускаться по ходатайству профсоюзов – «это будет защита, ответственная перед профсоюзом, проверенная профсоюзом, и руководство этой защитой будет в пролетарских руках, а не в руках анонимного чужеродного тела», как он называл коллегию защитников» (278, 298).
Путаные мысли, противоречивые взгляды ушли вскоре в область предания, а их место заняла строгая система террора, которой общественное сознание не воспротивилось. А. Я. Вышинский обосновал положение: в суде невозможно установить объективную истину, ибо нельзя использовать практику как критерий истины: преступление не воспроизведешь. А раз так, раз истину установить невозможно, то достаточно «максимальной вероятности» виновности обвиняемого» (278, 300–301).
То законодательство, которое создали большевики, к ним же было и применено, но, к сожалению, не только к ним, но и к миллионам безвинных людей.
Судебные решения и приговоры обосновывались «интересами государства и трудящихся», «политикой социалистического государства», «революционной целесообразностью». «Политику социалистического государства» проводили в жизнь судьи с низким уровнем образования: к 1927 году только 2 процента судей имели высшее юридическое образование. На совещании судебно-прокурорских работников РСФСР в 1929 году была принята резолюция, «которая в качестве «основного лозунга работы судов» закрепляла положение – «минимум формы, максимум классового существа» (58, 133). Процесс судебного рассмотрения дел упрощался, деятельность адвокатов была заменена работой в «коллективах защиты», что сужало возможности адвокатов выступать в суде.
Характер деятельности суда приобрел агрессивно-обвинительную окраску. Показательный пример: «Народный суд Польского района в феврале 1930 года по гражданскому делу в районе, где нет даже сплошной коллективизации, постановил в 24 часа административным порядком выселить десятки семей лишенцев и конфисковать все их имущество, которое на другой же день начали ... распределять в индивидуальном порядке местные советские работники... Подгощский нарсуд за выход через несколько дней из организующегося колхоза 9 середняков и малоимущих постановляет по гражданскому делу по иску колхоза «Красное знамя» изъять от 9 семейств все имущество без исключения и пустить их, таким образом, на все четыре стороны» (58, 133).
Государство укрепляло административно-командные формы управления, а интенсивному их внедрению могла противостоять развитая судебная форма. Следовательно, один из институтов должен быть уничтожен. Эта участь была приготовлена суду. Негативные тенденции 30-х годов набирали ход. «На одном из совещаний судебно-прокурорских работников заместитель председателя Московского облсуда Г. М. Сегал так охарактеризовал условия судебной работы: «Если я буду судить по гражданскому кодексу – меня самого будут судить по уголовному кодексу» (58, 135).
Декларации о новом, демократическом суде были отброшены за ненадобностью, политическая жестокость стала нормой жизни, обычные человеческие критерии потеряли значение, язык нетерпимости, лексика судебных речей Вышинского, газетных статей, выступлений вождей, писем читательских масс, где изобличались и клеймились «враги», – это родимые пятна того времени.
Оппозицией считались все, кто мог думать, анализировать, критиковать, предлагать. Борьба с оппозицией перешла в борьбу с народом. В своей речи на XVII съезде ВКП(б) И. В. Сталин сказал: «Она (оппозиция) должна заклеймить ошибки, ею совершенные, ошибки, превратившиеся в преступления против партии, открыто и честно, перед всем миром. Она должна передать нам свои ячейки для того, чтобы партия имела возможность распустить их без остатка. (Возгласы: «Правильно!» Продолжительные аплодисменты).
Либо так, либо пусть уходят из партии. А не уйдут – вышибем. (Возгласы: «Правильно!» Продолжительные аплодисменты) (249, 175–176).
Общественное мнение формировалось стремительными темпами, проводилась «коллективизация» идеологии. Российский суд, и раньше не славившийся щепетильностью и принципиальностью, верным служением Закону, полностью перешел на обслуживание «политических интересов» и следование принципу «революционной целесообразности». Вернемся к И. В. Сталину: «Эти белогвардейские пигмеи (оппозиция), силу которых можно было бы приравнять всего лишь к силе ничтожной козявки, видимо, считали себя – для потехи – хозяевами страны... <...> эти белогвардейские козявки забыли, что хозяином Советской страны является Советский народ... <...> эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит Советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа. Советский суд приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу. НКВД привел приговор в исполнение. Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской банды и перешел к очередным делам» (119, 332).
Одобрение и поддержка были безоговорочными. Следствие расследовало упрощенно и ускоренно, суд упрощенно и ускоренно судил. Затем расследовали и судили тех, кто расследовал и судил. Страна и народ шли по законам извращенной диалектики. Формализованный язык откликов, статей, выступлений, докладов был немыслим без брани в адрес врагов. Именем народа освящался любой произвол, суд этот произвол юридически оформлял. Права личности не существовало, наступил период «синдрома толпы». В действие включается машина мифотворчества. Один из распространенных мифов – кругом враги, везде вражеские организации.
Язык, мифы, обычаи были поставлены на службу репрессиям. Новые условия заставили народный дух проявиться в двух различных направлениях – в языке и в мифах. «Язык дает духовному содержанию жизни ту внешнюю форму, которая впервые дает ему возможность стать общим достоянием. <...> Язык не только служит вспомогательным средством для объединения духовных сил индивидуумов, но принимает сверх того живейшее участие в находящем себе в речи выражение содержания; язык сам сплошь проникнут тем мифологическим мышлением, которое первоначально бывает его содержанием» (208, 225–226).
В триаде – язык, миф, обычай – главенствующее положение занял миф. Общество согласилось с положением, что партийная верхушка вправе сама определять, кто является врагом общества, привлекая суд для юридического освещения борьбы с врагами. «Отсутствовала морально-политическая почва, необходимая для воли к сопротивлению. Переплетение моральных ценностей с политическими шло только в бюрократическом направлении, порождающем новую верноподданность – бессознательно-доверчивое отношение к существующей власти» (172, 24).
Обычай как средство самосохранения народа, дававший народу возможность «прятаться» от власти, под активным воздействием языка ушел в «низы» общественного сознания, не утратив при этом своей традиционности. Она была снижена, но не утрачена, не растеряна. В общественном сознании обычай остался. «Сознание – причина, а не следствие, и оно не может развиваться независимо от материального мира: поэтому реальной подоплекой окружающей нас событийной путаницы служит идеология» (280, 294). В сознании, обычае русского народа суд никогда не представлялся данностью, к которой относились с почтением. К нему относились как к неизбежной необходимости. В послании к митрополиту Даниилу Федор Карпов (год рожд. – ?, умер в 1545 г., был «постельничим» Ивана III, затем «окружничим» при дворе Елены Глинской, матери Ивана Грозного, занимался историей, философией, астрологией) писал: «Что является опорой дела народного, царства, владычества – правда или терпение? Если мы скажем, что терпение <...>, тогда напрасны все законы. Не нужны в таком государстве станут и праведные судьи, потому что все стерпят там, где в терпении жить будут.
А если же мы скажем, что правда необходима во всяком государственном деле и царстве <...>, тогда каждому воздастся по заслугам его. <...> Когда говорят: «Терпением вашим спасете вы души ваши», – то для понимания этих слов надо знать, что один суд существует для духовных лиц и другой – для мирян. Всем христианам надо иметь терпение по заповедям и евангельскому учению, но одним больше, а другим меньше, в зависимости от лиц, обстоятельств и времени. <...>
По всему этому законы всегда нужны были, чтобы страхом наказаний обуздать человеческую дерзость и чтобы опасно стало для недостойных своеволие. Именно ради того даны законы, чтобы не одолел всех тот, кто сильнее» (309, 243–245).
Быт, общественное сознание и юридические формы в России никогда не совпадали. В России всегда важнее была бытовая свобода при внешнем выражении уважения к государственным институтам, а точнее боязнь, страх при встрече с ними – судом, полицией, милицией, прокуратурой, начальниками всевозможных рангов. И критическое, ироничное отношение к ним отражается в языке, а точнее в генетическом коде народа. «Бей сколько хочешь, а только в суд не ходи», «В суд поди и кошелек неси», «В суд ногой – в карман рукой», «В суде убогий с богатым, хотя и прав, бывает виноватым», «Где суд, туда и несут», «Где суд, тут и неправда», «Дари судью, так не посадят в тюрьму», «Лошадь любит овес, а судья принос», «Карман сух, так и судья глух», «Не бойся закона, бойся судьи», «Не бойся вечных мук, а бойся судейских рук», «Не судись: лапоть дороже сапога станет», «Перо в суде, что топор в лесу: что захотел, то и вырубил», «Подпись судейская, а совесть лакейская», «Пошел в суд в кафтане, а вышел нагишом», «Судейский карман – что утиный зоб: и корму не разбирает, и сытости не знает», «Что мне законы, коли судьи знакомы!», «Шемякин суд» (206, 317–318).
Понятие о суде, настолько устойчивое в общественном сознании, что изменить его или оптимизировать практически невозможно. Уровень доверия к судебной власти, к сожалению, крайне низкий. В массовом сознании, которое использует стереотипы, имеющие многовековую историю отношений «суд – общество», распространено недоверие к структуре, призванной защищать интересы граждан, охранять их, обеспечивать порядок. В 1997 году по специальной программе через Фонд «Общественное мнение» были проведены всероссийские репрезентативные опросы, один из которых интересен для нашей работы – «Общественное мнение о суде и прессе». Итоги опросов изложены в книге «Средства массовой информации и судебная власть в России (Проблемы взаимодействия)», материалами которой мы воспользовались для раскрытия концепта Суд.
На вопрос: «Кому из названных структур респонденты больше доверяют?» – были получены такие результаты: армия – 29,7 %, органы безопасности – 12,5 %, милиция – 10,6 %, судебные органы – 9,8 %, прокуратуры – 6,7 %, налоговая инспекция – 7,5 %. «Самый низкий уровень доверия к суду выразили жители Москвы и Санкт-Петербурга (до 5 %)» (247, 140).
Мнения, впечатления, литературные произведения, газетные публикации, личный опыт, стереотипы массового сознания отразились в следующих ответах.
Суд и судьи – это...
«Защитники граждан от произвола и нарушений прав» – 19,4 %.
«Независимые и объективные арбитры в спорах и конфликтах» – 10,2 %.
«Служители закона и гаранты справедливости» – 16,3 %.
«Бездушные чиновники, бюрократы» – 26,8 %.
«Прислужники властей, влиятельных, богатых людей» – 27,7 %.
«Алчные взяточники, продажные люди» – 18,0 %.
Обыденные наблюдения, даже поверхностное знание ситуации, житейские знания дают респондентам возможность сделать вывод, впрочем, не без оснований, что «влиятельные и богатые люди» пользуются покровительством суда, что еще больше укрепляет традиционные стереотипы. В суде всегда бывают две участвующие стороны, одна из них всегда проигравшая. Судебные процессы, где выигрывает руководитель, в большинстве случаев, становятся объектом внимания журналистов и им придают общественную значимость, звучание, что бьет по престижу суда, даже если суд жестко руководствовался законом и вынес справедливое решение.
Суды работают не в стерильных условиях лаборатории, а в плоскости общественных отношений, т. е. столкновения интересов, страстей и т. д., являясь местом урегулирования разногласий, не должны препятствовать предварительному обсуждению споров в других местах – газетах, ТВ, радио.
«Суд, судебная власть призваны обеспечить своими решениями требования законности, что предполагает единообразное понимание и неукоснительное исполнение закона, принятие решений в точном соответствии с правовыми нормами и установлениями» (247, 145). «Почти две трети опрошенных заявили, что суд не гарантирует такого рассмотрения, если это ему и удается, то это происходит чрезвычайно редко. Число критически оценивающих законность судебных решений колеблется от 52 до 72 % в разных группах <...> почти каждый третий из числа тех, кто имел опыт участия в судебных заседаниях и был удовлетворен принятым решением, не верит в беспристрастное, основанное только на законе рассмотрение дел, а среди недовольных решением суда таких оказалось почти в два раза больше – 61 % (247, 146).
На вопрос: «Согласны ли Вы со следующим мнением: перед судом все равны – бедные и богатые, простые люди и начальники?» – 60 % ответили, что полностью не согласны. Словом, здесь сыграл свою роль «комплекс Собакевича»: «Мошенник! – сказал Собакевич очень хладнокровно, – продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья» (92, 342).
Российские граждане не верят суду как государственному институту, стараются избегать контактов с ним, и это заложено на подсознательном уровне, воспитано такое восприятие многими поколениями, заложено в ментальности русского человека, в наборе поведенческих стереотипов. Впрочем, как высказался Ф. Гиренок, «поскольку в России нет никакой ментальности, а есть почесывание затылка, постольку эту ментальность я называю умостроем» (86, 379).
Следовательно, Закон и Суд не являются той всеохватывающей инстанцией общественного бытия, которой конституирована эта обязанность. Российский гражданин предпочитает вести дела в первую очередь по другим каналам: друзья, родственники, связи, взаимные услуги и т. д., но не с помощью суда.
Государство относится к своим гражданам «недружелюбно» в силу того, что руководители (или власть) полагают, что они лучше знают, чего хотят граждане и как ими следует управлять. Поэтому-то граждане и сводят свои отношения с государством к минимуму, полагаясь исключительно на горизонтальные связи с друзьями, чтобы дистанцироваться от государства. В результате получается то, что Стивен Уайт охарактеризовал как «институализованное лицемерие». Связи между верхами и низами ограничены. Элита вырабатывает законы под себя и применение этих законов ориентирует на себя, а граждане вынуждены защищаться от государства, от которого не ждут ничего хорошего.
Негативное восприятие суда вызвано несколькими причинами: 1) корпоративная замкнутость суда; 2) отсутствие плодотворных контактов со средствами массовой информации; 3) пренебрежительное отношение к участникам процесса; 4) зависимость от других ветвей власти.
В массовом сознании Концепт Суд связан с Концептами Справедливость, Правда, Истина, Ложь.
Отношения между СМИ и судами сконцентрированы в двух точках: СМИ требуют, используя свои информационные ресурсы, защиты от притеснений, гонений за свободу слова, а суд (имеется в виду российский), с одной стороны, требует от прессы адекватного освещения деятельности судебной системы, с другой стороны, пытается использовать репрессивные санкции закона либо в поддержку прессы, отказывая в удовлетворении иска, либо по максимальной отметке шкалы ответственности «наказывает» СМИ. «Конечно, мысль о том, что судьям безразличны бушующие вокруг них страсти и что они действуют только согласно закону, является мифом. Судьи также читают газеты и смотрят телевизор <...> Но народы живут мифами, и миф о судебной объективности вмещает в себе больше правды, чем циничная общепринятая «мудрость» (299, 12).
Суд обязан, хотя это и трудно, оставаться на расстоянии от каждодневных интриг, в которых СМИ чувствуют себя вольно и непринужденно. Суд неизбежно делает кого-то «несчастным», потерпевшим за нарушение закона. СМИ, кроме того что преследуют политический, идеологический интерес, еще и самоутверждаются на информационном поле, в общественном мнении. Нередко за счет суда, описывая судебное заседание с позиций собственного понимания «правовой целесообразности». Пресса является посредником между судами и обществом, и если пресса не учитывает своеобразие и специфику действий судов в своих публикациях, то этим наносит вред и реализует функцию информационного насилия. Концепт Суд в российской ментальности воспринимается почти так же, как и Закон, т. е. как нечто, чего стоит опасаться и избегать, поскольку в нем очень высока степень формализации, предела. Интересы общества, интересы правительства, интересы власти – из этих трех интересов, по распространенному мнению россиян, суд поддерживает два последних.
Правовая культура всех народов имеет очень много сходных черт. Суд как самая старая из всех общественных систем сохранил в себе (имплицитно, скрыто) традиции и недостатки прежних веков, поддерживает миф о себе как структуре, исполняющей Закон.
Суд знает о себе мнение общества, которое в целом не комплиментарно, но как закрытая структура старается поддерживать и эксплуатировать другой миф – о сложности и таинстве исполнения Закона.
В отношении средств массовой информации, которые имеют сложную природу, отличную от экономических, хозяйственных учреждений, суды используют метафизические, формализованные методы рассмотрения дел в суде.
Российский суд прошел сложный путь от чрезмерной регламентации до упрощенного судопроизводства, торжества «революционного правосознания и целесообразности», что отразилось на судебной системе: принцип целесообразности имплицитно применяется до сих пор.
У обычного россиянина среди многих правил выделяется одно, «золотое»: правду можно искать, а точнее отстоять свой интерес, в суде только при условии, что у тебя есть влиятельные друзья среди судей или могущие повлиять на судей.
Пословицы и поговорки в большинстве своем свидетельствуют о негативном отношении общества к судьям и самой системе судопроизводства.
Суд – аппарат насилия, а насилию всегда сопротивлялись. В России народ искал воли, а не свободы. Поскольку свобода требует законодательного оформления, а следовательно, и норм Закона, но в российской ментальности Закон есть предел, а предел чужд российскому мировоззрению, постольку нужна воля, а не свобода.
Суды и судьи защищены от общества тем, что они выносят приговоры, решения от имени государства. Их ошибки (или преступления) исправляет вышестоящая инстанция, которая тоже действует от имени государства. Таким образом, человеческие ошибки судьи переносятся на государство, законы, которые индифферентны к любому частному случаю.
Выявление существенных связей Концепта Суд (суд – правда, суд – истина и некоторые другие) подтверждает, во-первых, принципиальную обращенность исследованного концепта к фундаментальным категориям права и, во-вторых, его соотнесенность с феноменами информации.
Развитие массовой информации (и ее средств) находится в отношении взаимно-многозначного соответствия с функционированием Концепта Суд. С одной стороны, на эволюции и кристаллизации данного Концепта сказывается его «обработка» в категориях СМИ. С другой – полифония и полифункциональность Концепта Суд предполагает определенную динамику категорий СМИ.
Концепты Правда – Истина
Справедливость – это первая добродетель общественных институтов, точно так же, как истина – первая добродетель систем мысли» (224, 19).
Извечная проблема, которую человечество пытается разрешить уже много веков своего существования. «Я есмь путь, истина и жизнь» – это слова, сказанные Иисусом Христом на Тайной вечере ученикам. Что это значит? «Это значит, что истина не носит интеллектуального и исключительно познавательного характера, что ее нужно понимать целостно, она экзистенциальна. Это значит также, что истина не дается человеку в готовом виде, как вещная предметная реальность, что она приобретается путем и жизнью. Истина предполагает движение, устремленность в бесконечность. <...> Истина динамична, а не статична. Истина есть полнота, которая не дается завершенной <...> Истина не есть реальность и не есть соответствие реальности, а есть смысл реальности, есть верховное качество и ценность реальности» (32, 20–21).
В древнегреческом языке слово «истина» (aletheia – алетейя) буквально означает «не скрытое». Оно указывает на событие, реальный факт, который можно наблюдать, обозначить и описать с помощью слов. Факт (событие) раскрывается, обнаруживается людьми или сам «обнаруживает себя», хотя и может подвергаться искажению и замалчиванию. Алетейя переводится следующим образом:
истина, правда (например, рассказывать всю правду, быть истинным, в действительности);
истинность, верность (например, истинность слов, сбывшегося пророчества);
правдивость, прямота, искренность;
«истина» (сапфировое украшение, которое, как символ истинности их учения, носили жрецы в Египте)» (97, 77–78).
Наиболее частые противопоставления aletheia – pseudos (обман) и doxa (молва, мнение, представление, видимость). Они замещают и искажают истину.
А. Ф. Лосев рассматривает Истину следующим образом: «Если мы возьмем греческое слово «истина», то в нем кроме отвлеченного и обобщенного значения «истины» (как в латинском Veritas или русском «истина») есть еще момент, характерный именно для психологии греческого мироощущения, так как буквально это слово значит «незабываемое», «незабвенное», а следовательно, «вечное» и т. д. Предметная сущность этого слова – истина, но каждый народ и язык, как и каждый человек из этих народов, переживает этот предмет по-разному, выделяет в нем разные, смотря по собственному интересу и потребностям, моменты. Так, в греческом подчеркивается «незабвенность», в латинском – момент доверия, веры и т. д. Все эти различия по-своему оформляют и определяют общее значение предметной сущности истины, и, конечно, в анализе имени и слова непростительно было бы опустить этот важный момент. <...> одно и то же предметное содержание слова разные народы понимают по-разному, в сфере народа – по-разному понимают разные индивидуумы, в сфере индивидуума – понимание разнится по разным временным моментам и условиям» (143, 648).
В. Даль дает такое толкование истины: «противоположность лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть; ныне этому слову отвечает и Правда, хотя вернее будет понимать под словом правда: правдивость, справедливость, правосудие, правота. Истина от земли, достояние разума человека, а правда с небес, дар благостыни. Истина относится к уму и разуму; а добро или благо к любви, нраву и воле // Встарь истина также наличность, наличные деньги» (96, 60). «Правда – истина на деле, истина во образе, во благе; правосудие, справедливость <...> Истина от земли возсия, и правда с небесе приниче, т. е. правосудие свыше // Неумытность, честность, неподкупность, добросовестность. Правдою жить, палат каменных не нажить // Правдивость как качество человека, или как принадлежность понятия, или рассказа, описания чего словами, полное согласие слова и дела, истина, противоположность лжи. <...> // Праведность, законность, безгрешность. <...> // По первичному значению, правдой зовется судебник, свод законов, кодекс. Русская Правда и Правда Ярослава, сборник узаконений, уставник // Посему же правда (старинное значение. – Авт.) – право суда, власть судить, карать и миловать, суд и расправа // <...> Правда (старинное) – пошлина за призыв свидетеля к допросу» (96, 379).
Концепты Правды и Истины в словаре В. Даля определены и разграничены. Они имеют общую экзистенциальную основу, но различаются по внутренней сути, хотя и несущественно. Истина является «достоянием разума человека» и исходит от земли. Правда же «с небесе приниче», т. е. дар благостыни. Рациональное использование слова «правда» во времена Ярослава Мудрого, перенос значения слова «правда» и определение кодексов и сборников узаконений как Правда подтверждает небесное происхождение Правды и законов, данных народу свыше. Правда есть правосудие свыше. «В современном русском сознании различие правды и истины четко ощущается, но взаимное расположение их в рамках сложного концепта несколько изменилось. Теперь истина связывается, скорее, с вечным и неизменным, а правда с земным, изменчивым, социальным. Их соотношение выражается примерно так: «Истина – одна, а правд много. Истина для всех одна, а правда у каждого своя» (239, 319). Правда субъективируется, она становится рациональной. Истина, поскольку она одна, то становится «объективной» для всех.
В языке Нового Завета «истина» употребляется в следующих значениях:
Истина – то, что обладает верностью и силой. Истина понимается как норма, подлинное и надлежащее.
Истина – то, на что человек может положиться.
Истина как реальное положение дел, такое как оно само являет себя.
Истина как истинность утверждения.
Истина как истинное учение, вера.
Истина как божественная реальность, откровение (110, 14–15).
По Н. Бердяеву, «истина есть не объективная данность, а творческое завоевание. <...> Она есть творческое преображение реальности. Мир чисто интеллектуальный, мир чисто интеллектуального познания есть в сущности отвлеченный, в значительной степени фиктивный мир. Истина есть изменение, преображение данной реальности. То, что называют фактом и чему приписывают особенную реальность, есть уже теория» (32, 21).
Термины, Концепты, понятия «истина» и «правда» располагаются в плоскости пересекающихся понятий, между ними существует различие, которое заключается в том, что «истина относится к модальности de re (делать), указывая на верное отражение объективной действительности в сознании человека, тогда как правда входит в систему модальности de dicto (говорить), показывая соответствие сказанного действительности. Это различие проявляется в употреблениях обоих слов, в значениях их производных и образуемых ими словосочетаний: изрекать истину и говорить правду, истинный друг и правдивый друг» (80, 44).
Известный ученый В. Г. Гак выделил параметры Истины и предложил их в следующем порядке: 1) общая значимость истины; 2) сила истины; 3) истина и время; 4) истина и нравственность; 5) прагматика истины; 6) истина и свобода; 7) качества истины; 8) выражение истины; 9) истина и деятельность (в прагматических целях человек склонен искажать истину в своих интересах и оценивать ее по практическим результатам); 10) поиски истины (поиск истины важнее самой истины); 11) истина и не-истина (существуют три типа неистины: ложь, заблуждение, фантазия); 12) критерий истины /Прямое (словарное) определение истины – соответствие нашего представления действительности – не может дать окончательного ответа на наш вопрос, поскольку, согласно закону дополнительности, возможен ряд индивидуальных отражений, соотносящихся с одной и той же реальностью (80, 45–51).
Насильственное перемещение Истины в плоскость юридическую, придание ей застывших, бездвижных форм делают Истину догматом, относит ее к социализированной сфере, уничтожая ее как качество. Определение Истины как необходимой стороны полезности приводит к искажению ее. «Критерий пользы для какого-либо коллектива есть скорее критерий лжи, чем Истины» (32, 24). Нельзя не согласиться с Н. Бердяевым, что «частные истины, с маленькой буквы, разрабатываемые специальными, дифференцированными науками, относятся к объективированному миру. Но самый процесс познаний этого мира возможен только потому, что в познающем есть неосознанное отношение к этой единой Истине. Без этого человек был бы раздавлен запутанной множественностью мира, его дурной бесконечностью и не мог бы над ней возвыситься в познании» (32, 25).
Подавляющее большинство истин носит религиозный характер. Одним из первых эти истины как парадокс и выбор стал толковать Серен Кьеркегор, добавляя к ним понимание веры и истины как «субъективности». «Объективные, например, математические, знания не суть истины в полном смысле этого слова, так как они не затрагивают единичного, ничего не дают для его «существования». Ему нужна своя, личная истина, доказательство которой сводится к внутренней убежденности, переживанию, страсти. Истину не познают, в ней «существуют». По сути дела, каждый человек «имеет истину... именно «многие» суть критерий неистинности» (188, 563).
Кьеркегор считает, что субьективность есть и заблуждение, и истина, искренняя убежденность может превратить не-истину в истину, и у каждого субьекта найдется своя истина, отличная от истин других людей, если он нечто свое хочет считать истиной.
В судопроизводстве и в журналистике Истина является как основой деятельности, так и объектом познания. Субъект (судья, журналист) – это познающий, объект – познаваемый. За всем этим следует накопление опыта, точнее дифференцированных, частных истин реального бытия, которые воздействуют в обратном отношении от объекта к субъекту. Субъектно-объектное отношение представляет собой фундаментальную структурную схему опыта и репертуара жизненных истин. «Субъектно-объектное отношение можно истолковать как отношение реципиента и раздражителя, при этом возбуждаемый факт становится эмоциональной оценкой статуса раздражителя в возникшем опыте» (270, 576).
Ф. Ницше рассматривает Истину как правду бытовую или убеждения: «Методическое искание истины есть само результат тех эпох, когда сражались между собой убеждения. Если бы отдельный человек не был заинтересован в своей «истине», т. е. в том, чтобы остаться правым, то вообще не существовало бы метода исследования» (189, 290).
Мир стандартных истин и меняющихся, в зависимости от обстоятельств, правд лежит в плоскости отношений видимости и реальности. «Истинностное отношение требует лишь одного: чтобы два соотносимых объекта имели некоторый общий фактор» (270, 670). Соотносимость переводит Истину в сферу субъективного. Субъективизм переводит Истину в сферу прагматизма. Здесь и теряется, затушевывается высшее значение Истины. «Прагматизм очень оптимистичен и не видит трагической судьбы Истины в мире. И тут главная ошибка и ложь этого направления мысли. В действительности существует прагматизм лжи, ложь бывает очень полезна для организации жизни, и эта ложь играет огромную роль в истории. Социально полезной ложью очень дорожили руководители человеческих обществ, для этого создавались мифы, консервативные и революционные, религиозные, национальные и социальные, и они выдавались за Истину, иногда даже научно обоснованную Истину. Сторонники прагматизма очень легко принимают за Истину полезную ложь. Иллюзии сознания играют очень реальную роль в жизни человеческих обществ, они часто являются очень массивными реальностями» (32, 28).
В этимологии слова «истина» четко вырисовывается семантическая (смысловая), концептуальная сфера. В старославянском и древнерусском языках истъ восходит к индоевропейскому yaus, означающему «то, что принадлежит произнести и сделать по установленному закону и ритуалу», в силу чего прилагательное будет значить «получивший законную силу, освященный ритуалом, правильный, истинный в силу совершенного ритуала» (238, 322). Древнерусский термин истец ведет свое происхождение от «исто», значение которого также «наличность, наличные деньги». Древнепольское iscina «истина, капитал, наличные деньги», isciec – «законный владелец» (273, 142).
В древнерусском языке слово истец означало участника судебного процесса, ритуала, ищущего выгоды, а не истины в тяжбе. Обе стороны в процессе были истцами. В «Русской Правде» появляются термины «ищее» (т. е. истец) и «ответчик».
Здесь нелишне будет процитировать М. Фасмера: «др.-рус. исто – «капитал», укр. iстый, iстный – «истинный, настоящий», <...> болг. ист – «тот же самый» <...>, чеш. jisty – «подлинный, верный, определенный, надежный» // Зап.-слав. формы делают праформу jьstъ сомнительной. Это слово сравнивают с лтш. ists, istens, istans – «настоящий, истинный». <...> В последнее время Станг <...> пытался связать слав. ist/ь с др.-инд. ice – «имею во владении», icanas – «властелин, состоятельный» <...> Наиболее убедительна этимология Топорова, согласно которой слав. istъ «тот же самый» является местоим. образованием is-to, аналогичным лат. ista, умбр. esto «этот, тот» (273, 144).
Реконструкция значения слова «истина» приводит к убеждению, что Истина есть отношение видимости к реальности – «тот же самый». ...Юнг считал Истиной факты, саму реальность, а не оценочные суждения человека о ней (110, 27). «Истина обладает простой силой, которая в субъективной форме ее схватывания оказывается родственной чистоте, а именно, она устраняет все ненужное, излишнее» (270, 671). ...Истина как объективная категория определяется только посредством соотношения понятия с субъектом, бытия с сознанием. В процессе познания, взаимодействия субъекта с объектом гносеологическая истина постепенно превращается для него в психологическую правду. Это происходит вследствие конкретизации, индивидуального осмысления истины, включения ее в контекст личностного знания (110, 23).
По мнению Ю. Степанова, «славянское истъ <...> не принадлежит к этой семье (романо-германской. – Авт.) и не является производным от этого корня. Но сопоставление двух рядов слов, приводящих к значению «истинный, истина», показывает, что как в одном случае (сл. истъ, латин. iustus), так и в другом (др.-инд., авест., герм.) развитие опосредовано промежуточным звеном-концептом «социальное установление, социальное правило, закон», но только в первом ряду таким звеном оказывается ритуал и формула (в частности, правовая и судебная), а во втором «семья, клан». (В этом втором случае законом и порядком, следовательно, признается тот закон и порядок, которые царят в пределах семьи-коллектива «своих» и которые противопоставляются беспорядку и отсутствию законов, господствующему за пределами «мира своих» – в отношениях с другими общинами и в этих последних, у «чужих» <...>.)
Из сопоставления также видно, что понятие Истина универсально и едино для всех индоевропейских народов, возникает на различных путях, но все они ведут к одной и той же, как бы заранее предопределенной цели» (238, 323). Закон, порядок, установление – это всегда временная или долговременная выгода, польза, способствующая сохранению и поддержанию миропорядка, а отсюда «существует вечный трагический конфликт между Истиной и пользой, выгодой» (32, 28).
Поскольку есть «свои» и «чужие» истины, постольку «своя» Истина устраняет в «своем» миропорядке все ненужное и агрессивное, пугающее, и «она направлена на поддержание индивидуальных черт лишь в той мере, в которой это необходимо для красоты сложного целого. Ложность разъединяет» (270, 671). Человеческое сознание с его смутными интуициями воспринимает по преимуществу лишь то, что воплощает в себе правильность, упорядоченность, необходимость. Истина – это гармония. «Достижение истины относится к сущности умиротворенности. Это означает, что интуиция, образующая реализацию умиротворенности, имеет своим объектом ту гармонию, взаимосвязи которой содержат истину. Недостаток истины приводит к ограничению гармонии» (270, 698).
Гегель Истину вводит в триаду, структура которой образована из трех различных понятий Истины. Первая часть триады заключается в том, что понятие соответствует вещи, т. е. имеется предмет, которому соответствует наше представление о нем. Это рассудочная ступень Истины. Второе гегелевское понятие Истины гласит, что истинна вещь, если она соответствует своему понятию. Здесь затрагивается вопрос о моральных и аксиоматических оценках. Третье понятие Истины состоит в согласии духовного содержания с самим собой, в совпадении понятия с его же предметом. «Здесь истина есть «свой собственный результат» и истинно то содержание, которое «опосредует себя самим собою». Высшая Истина утверждает сама себя, она сама «есть критерий» себя как системы.
Эти мотивы тотального априоризма были у Гегеля неизбежным следствием его общей идеалистической позиции. «Отражающийся в себе бесконечный дух сам себя доказывает. Но истина есть процесс, ибо ее содержание составляет путь, пройденный к развитой истине. А потому истина есть процесс ее самодоказательства. С этих позиций Гегель характеризует первое и второе понятия истины как неполноценные, рассудочные, приводящие не к истинности, а лишь к «правильности» (188, 350–351).
В Соборном послании святого апостола Иакова Истина и Мудрость представлены как понятия равнозначные: «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением и мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная душевная, бесовская, ибо, где зависть и сварливость, там и неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (45, 1697). Истина, как и мудрость, идут от Бога, нисходят свыше. Злословие, злые суждения сравниваются с судом. «Не злословьте друг друга, братия; кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого» (45, 1697).
Истина – Правда имеет свою противоположность, свою языковую пару – Ложность. По мнению Г. Ч. Гусейнова, «не надо быть лингвистом, чтобы понимать разницу между грамматически правильным, но ложным и лживым, и грамматически недопустимым, но правильным или правдивым. Важно не забыть сделать следующий шаг: с лингвистической точки зрения истинное высказывание – это во всех без исключения случаях лишь одна из бесчисленного множества ячеек лжи. <...> речевое поведение – изначально ориентировано именно на ложь» (84, 65).
В древнегреческом языке – языке величайшей культуры – существовало противопоставление aletheia (истина) и pseudos (обман, ложь) – doxa (молва, мнение, представление, видимость). Здесь была выявлена особенность не только терминологическая, но и лингво-психологическая. Обман или ложь (pseudos) содержат в своей основе умысел, заданность, a doxa есть лишь отражение того психического образа, явления, события, свидетелем которого стал человек. Это как бы сканирование реальности по каналу психологического восприятия. В юридической, языковой практике истина понимается как реальность, ясные, прозрачные факты, соответствие описания самому событию в противоположность чувственному, субъективному описанию в свидетельских показаниях. Недаром у юристов существует выражение: «врет, как свидетель».
Важно отметить, что «субъективно истинное признание всегда понимается и оценивается говорящим не как истина, а как правда. В отличие от истины правда – это та же калька, не буквальная передача случившегося, а иногда осознанная, но чаще неосознанная мысленная трансформация событий» (110, 102).
Аристотелевское понимание истины ориентировано на рассмотрение истинности как свойство мыслей, а не как свойство вещей. Отсюда следует, что Истина есть не просто знание, а такое знание, которое соответствует реальной действительности. Аристотель положил начало теории соответствия, т. е. корреспондентной теории Истины.
У Аристотеля «предметом сознательного выбора (proaireton) не может быть нечто в прошлом; так никто не собирается (proaireitai) разрушить Илион, ибо о прошедшем не принимают решений, [их принимают только] о будущем и о том, что может быть, а прошедшее не может стать не бывшим, и потому прав Агафон:
Ведь только одного и богу не дано:
Не бывшим сделать то, что дело сделано.
Таким образом, дело обеих умственных частей души – истина. А это значит, что для обеих частей добродетелями являются те склады [души], благодаря которым та и другая часть достигнет истины наиболее полно» (11, 174).
В обыденном сознании, восприятии Истина понимается как соответствие реальности, действительности мыслей и слов, которые эту реальность отражают; реальность раскрывается и становится ясной, очевидной уму и пониманием слова «истина» можно считать «отраженную реальность» (включая и реальность божественную), «реального положения дел», того, что происходит вне человека не независимо от него. Человек может по-разному относиться к истине, руководствоваться ею, полагаться на нее, но в слове «истина» отсутствует элемент личной включенности человека в процесс ее создания и «осуществления» (110, 17).
«Истина есть историческое явление бытия» – таков хайдеггеровский афоризм. Хайдеггер, Гадамер, Корет, несмотря на определенные различия в толковании истины, в целом считали сферу Истины шире области эмпирической достоверности. «Истина здесь также означает, что наше понимание вещи и понимание высказывания о ней, диалектически взаимодействуя друг с другом, постигают сущность вещи. Понятие истины как соответствия – это только самое первое, непосредственное приближение к истине, которое и необходимо, и недостаточно». По Корету, Хайдеггер прав в том отношении, что голому факту соответственно он противопоставлял «несокрытость», или очевидность.
Истина заключается не в том, что знание или высказывание соответствуют своему предмету, а в предположении, что «то, что существует и как оно существует, само себя обнаруживает и открывается пониманию».
Истина как очевидность является не отрицанием, а условием возможности истины как соответствия» (130, 77). Последнее относится к Истине в истории, когда «понятие исторического процесса предполагает истину отдельного события в качестве условия» (130, 77). Истина как категория соответствия, очевидности относится не только к предмету, но и к мысли. Так, для Фреге смысл мысли и мысль есть то, что может быть истинным или ложным, а отсюда следует, что «смысл предложения состоит в условиях его истинности» (130, .99).
За время своего существования человечество выработало ряд непреложных установлений, нарушение которых всегда порицаемо и «библейские десять заповедей считаются вечными истинами. Познавательная истина представляет собой оценку объективности знания, его адекватности действительности» (110, 18).
Для Канта понимание Правды – это проблема анализа не внутреннего мира говорящего (его установок, целей, знаний, ценностных ориентации), а способа соотнесения любого правдивого высказывания с обязательным для каждого человека долгом, с априорными моральными нормами.
«Признание чего-то истинным имеет место в нашем рассудке и может иметь объективные основания, но требует также субъективных причин в душе того, кто высказывает суждение. Если суждение значимо для каждого, кто только обладает разумом, то оно имеет объективно достаточное основание, и тогда признание истинности его называется убеждением. Если же оно имеет основание только в особом характере субъекта, то оно называется уверенностью» (125, 427).
Суждение субъективно, и для признания его истинным требуется система защиты, аргументация, соответствие излагаемых мыслей (или мысли) действительности и т. д. «Между тем истинность основывается на соответствии с объектом, в отношении которого, следовательно, суждения всякого рассудка должны быть согласны между собой. <...> Следовательно, критерием того, имеет ли признание чего-то истинным характер убеждения или только уверенности, внешне служит возможность сообщать его и считать, что его истинность может быть признана всяким человеческим разумом; действительно, в таком случае имеется, по крайней мере, предположение, что основание согласия всех суждений, несмотря на различие субъектов, будет покоиться на общей основе, а именно на объекте, с которым все они, поэтому согласуются и тем самым доказывают истинность суждения» (125, 427).
«Суждение, которое описывает выражение переживания, не может быть истинным или ложным. Его следует оценивать в категориях правды или неправды, категория истины как соответствия знания своему предмету здесь не может быть использована» (130, 58).
Соответствие суждения объективной реальности – непреложное правило в журналистике и юриспруденции, где, особенно в последней, убеждение в справедливости выносимого решения должно основываться на точном знании картины события и убеждении, что принятое решение правильное. «Суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности» (131, 92).
По мнению комментаторов Гражданского процессуального кодекса, существо оценки доказательств судом (судьей) по внутреннему убеждению заключается в том, что «только сами судьи решают вопросы достоверности, истинности или ложности содержащихся в них сведений, достаточности для правильного вывода» (131, 93). Судья выступает в качестве авторитета, определяющего истинность доказательств, предъявляемых суду сторонами. «Внутреннее убеждение отражает их собственное отношение к своим знаниям, решениям, действиям» (131, 93). Внутреннее убеждение судьи в истинности решения, суждения, достоверности события наталкивается на внутреннее убеждение истца или ответчика в своей правоте. Для российской ментальности характерно тяготение в понимании законности «скорее к внутренней убежденности в правоте, к справедливости внутренней, чем к внешней, юридической «формальности». Странным для западноевропейца образом, «справедливость» не соединяется с «юридической законностью», а скорее отталкивается от нее и противопоставляется ей. В русской жизни наших дней – и, пожалуй, все чаще и чаще – слышишь жизненную максиму, афоризм: «Закон законом, а я поступлю по совести». Совесть при этом осознается тоже как «закон», но закон внутренний, противопоставленный внешнему, юридическому (238, 329). В «законе» собраны частные истины, представляющие собой основу базисной структуры, т. е. «публичной системы правил, определяющих схему деятельности <...>, человек опирается на то, что публичные правила говорят ему по поводу его действий, а правила зависят от того, что он делает» (224, 85). Публичные системы правил предусматривают, прежде всего, моральные нормы, которые есть основа Истины и Правды. «По Канту, моральные нормы предписывают следующему им человеку не цель, не конкретное содержание деятельности, а только определенную форму всеобщей законосообразности. Вследствие этого для решения вопроса, принадлежит ли обсуждаемый поступок к числу нравственных или безнравственных, надо всегда смотреть, смог ли бы он стать всеобщим законом поведения человека в обществе. Если это окажется возможным, то он будет нравственным, в противном же случае – безнравственным» (110, 46).
В «Критике чистого разума» И. Кант для признания истинности суждения или субъективной значимости суждения в отношении убеждения (оно имеет объективную значимость) выделяет три ступени: мнение, веру и знание. «Мнение есть сознательное признание чего-то истинным, недостаточное как с субъективной, так и с объективной стороны. Если признание истинности суждения имеет достаточное основание с субъективной стороны и в то же время считается объективно недостаточным, то оно называется верой. <...> И субъективно и объективно достаточное признание истинности суждения есть знание. Субъективная достаточность называется убеждением (для меня самого), а объективная достаточность – достоверностью (для каждого)» (125, 428).
И в журналистике, и в судопроизводстве присутствуют в действиях субъектов эти категории: о событии, явлении составляется мнение, изучение его дает знание, на которых складывается убеждение. В журналистике преобладает субъективная достаточность, собственное убеждение в том, что конкретная Истина защищена, фактуальная база достоверна. В судопроизводстве процесс поиска Истины отягощен еще и формой, т. е. процессуальной процедурой или процедурной справедливостью, которая далека от совершенства. «Несовершенная процедурная справедливость представлена уголовным судом. Желаемый результат тут заключается в том, что подозреваемый должен быть провозглашен виновным, если и только если он совершил поступок, в котором обвиняется. Судебная процедура оформлена так, чтобы установить истину в этом отношении. Но кажется невозможным изобрести такой закон, чтобы соответствующие правила в его рамках всегда вели к правильному результату. Теория суда проверяет, какие процедуры и правила свидетельствования и т. п. наилучшим образом приспособлены для целей, совместимых с другими целями закона. Разумно ожидать от самых различных видов слушаний дел в суде при различных обстоятельствах, что все они приведут к правильным результатам, если не всегда, то, по крайней мере, в большей части случаев. Суд есть пример несовершенной процедурной справедливости. Даже если следовать строго закону и вести дело честно и правильно (с соблюдением норм), мы можем получить неверный результат. Невиновный человек может быть провозглашен виновным, а совершивший преступление окажется на свободе. В таких случаях мы говорим о судебной ошибке: несправедливость есть результат не человеческой ошибки, но результат случайного стечения обстоятельств, которые одерживают верх над законом. Характерной особенностью несовершенной процедурной справедливости является то, что в то время, как есть независимый критерий правильности результата, не существует возможной процедуры, которая наверняка вела бы к нему» (224, 86).
Категории Истины и познания диалектически взаимосвязаны. «Познание истинно, т. е. является познанием, поскольку оно представляет нам вещь такой, как она есть ...именно в этом представлении вещи посредством суждения (утверждения), в представлении, которое нам дает вещь таковой, какая она есть, и состоит adaequatio, истина, суждение. Связь суждения – и более широко – intelectus’a – с вещью является полностью связью sui generis... Истина утверждения в том, чтобы быть раскрывающей. Познать значит быть раскрывающим по отношению к вещи (к реальной вещи, к сущему)» (132, 115).
В рамках нашего исследования будет целесообразно обратиться к работе Александра Койре «Философская эволюция Мартина Хайдеггера», который анализировал хайдеггеровский труд «О сущности истины».
«Отправной точкой учения об истине является в ней обыденная жизнь. Что обычно понимают под «истиной»? Истина – это то, что делает «истинным» истинное. Но что является истинным? Мы говорим об «истинной радости»... Мы слышим: чистая радость, настоящая радость, радость, которая реально является радостью. Истинным является, таким образом, действительное. Мы говорим об «истинном» золоте для того, чтобы отличить его от «фальшивого» золота. Ложное или то что не является «реально» тем, чем оно кажется. Оно является, таким образом, только «видимостью» и, как следствие, «нереальным». Однако фальшивое золото тоже является чем-то реальным. Тогда надо уточнить: действительное золото – это «подлинное» золото (veritable, echt). Но ничего подобного, действительным является и то и другое; подлинное золото в не меньшей степени, чем фальшивое, имеющее хождение повсюду. Значит, подлинное золото истинно вовсе не в силу факта своей действительности. Поэтому вопрос встает снова: что значит истинное? Подлинное золото является таким действительным, действительность которого согласуется с тем, что мы, собственно говоря, заведомо и всегда, понимали под «золотом». Там, где мы подозреваем фальшивое золото, мы говорим: «здесь что-то не ладится». Напротив, когда что-то является «тем, чем это должно быть», мы замечаем: это по правилам, это правильно (c’est juste, es stimmt). «Однако слово «истинный» мы относим не только к действительной радости, подлинному золоту и к другому существующему этого; мы называем, прежде всего, истинными и ложными НАШИ утверждения (высказывания) о сущем, которое, само по своему характеру, может быть настоящим или ненастоящим, выступая в той или иной форме в своей действительности. Утверждение (высказывание) является истинным, когда то, что оно обозначает, и то, о чем говорит, согласуется с вещью, о которой высказывается данное суждение. В этом случае мы также говорим: это правильно. Однако в этом случае правильной является не вещь, но предложение».
«Истинное, будь то истинная вещь или истинное предложение, есть то, что правильно, что согласуется. Быть истинным означает, таким образом, согласованность: согласованность вещи с понятием о ней, сложившимся ранее, и, с другой стороны, согласованность сказанного в утверждении (высказывании) с вещью».
Этот двойственный характер согласования проясняется традиционным определением Истины: Veritas est adaequatio rei et intellectus. Это может также означать: Истина есть приравнивание вещи к познанию. Несомненно, только что приведенное нами определение сущности обычно дают в форме: Veritas est adaequatio intellectus ad rem. Однако так понимаемая истина, истина предложения, возможна только на основе Истины вещи, в adaequatio rei ad intellectum.
В понятие Истины вводится понятие истории. «История является не только историей истины. Ибо из того, что «истина есть по сути своей свобода», следует, что исторический человек в допущении сущего может также и не допустить сущее быть тем, что оно есть. Сущее тогда вновь скрывается и утаивается, а место Истины занимает заблуждение. Тогда появляется несущность (Un-wessen, non-essence) истины. Но так как экзистирующая свобода в качестве сущности истины не является свойством человека, скорее наоборот, человек экзистирует только как собственность этой свободы и таким образом становится историческим, поэтому, возможно, что и несущность свободы не может родиться post-factum из неспособности и небрежения человека. He-истина должна родиться из сущности истины» (132, 126).
Поиск Истины и отстаивание истин составляет существо духовной деятельности человека, который «должен изживать свою судьбу, которая есть лишь путь» (32, 128), и он может по-разному относиться к Истине, руководствоваться ею, полагаться на нее, в слове «истина» отсутствует элемент личной включенности человека в процесс ее создания и осуществления.
Несколько иные по отношению к понятию Истины значения и контексты употребления выявляются при лингвистическом и психологическом анализе содержания Правды. В древнегреческом языке «правда» (dikaisyne) происходит от слова dike, являющегося основополагающим понятием для греческой этики, юриспруденции, теологии и имеющего очень широкий спектр значений. Dike определялось и понималось как «право», «справедливость» не только в юридическом и политическом смысле, но и как высшая божественная справедливость, божественно установленный порядок на земле.
В античной философии проблема происхождения Правды была достаточно актуальна. Стоики считали, что она существует от природы, а не по установлению. Платон же считал, что Правда есть творение людей. «Правда – это то, что пригодно сильнейшему», то, что пригодно существующей власти.
Аристотель в «Никомаховой этике» определяет Правду как середину между тем, чтобы поступать неправосудно, и тем, чтобы терпеть неправосудие. «Правда состоит в обладании некоей серединой, однако не в том же смысле, что и прочие добродетели, потому что она принадлежит к середине, а неправда к крайностям».
«Слово «правда», в отличие от слова «истина», нужно трактовать как осуществление, воплощение абсолюта, истины в жизни реальных людей. Не случайно, в классическом древнегреческом языке «правда» обозначала и справедливость, и законность, и судопроизводство как попытку создания ими восстановления справедливости» (110, 26).
Концепт Правда – Истина имеет древнейшую историю, исследование которой будет иметь общеобразовательный и познавательный характер. Однако поведенческие рекомендации эти исследования не дают. Практическая ценность понятия Правды, а также и Истины заложено в пословицах.
«Правду за деньги не купишь», «Многое деньги могут, а правда – все», «Правда дороже золота», «Правда и в огне не горит, и в воде не тонет», «Честное дело не таится», «Правда суда не боится», «Правда любит свет, ложь – тьму», «Сила не в силе, а в правде», «Тот и герой, кто за правду горой», «Лучше горькая правда, чем красивая ложь», «Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду скажет», «Всяк правду трубит, но не всяк ее любит», «Всяк правду ищет, да не всяк творит», «Всяк правду знает, да не всяк ее баит», «Правду говорят только дурачки и малые дети», «Устами младенца глаголет истина», «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», «Правду о себе только подслушать можно».
От возвышенного представления и понимания Правды народное сознание снижает и оценивает ее до позиций практических. В народном сознании Правда есть ценность, которой нужно следовать, которая есть Абсолют, но практическое следование Абсолюту чревато неприятностями конкретными, которые житейская мудрость советует обходить стороной. Следующий блок пословиц, перлов народной мудрости выражает критическое отношение к Правде.
«За правдивую погудку смычком по рылу бьют», «Кто прямо ездит, тот дома не живет», «Правдой жить, ничего не нажить», «Правдолюб – душа нагишом», «Правда – в лаптях, а кривда – в сапогах», «Правда – хорошо, а счастье лучше», «Когда говорят деньги, правда молчит» (206, 360–361).
Здесь в отношении Правды на первом месте стоит житейская выгода, нравственная сторона Правды игнорируется, не явно, а в форме рекомендации: хочешь ходить в сапогах – не гоняйся за Правдой, а если предпочитаешь Правду, то не обессудь, что на твою долю достались лапти. «Одна из причин «неуважительного» отношения россиян к истине заключается в ее «приземленности», чересчур явной связи с очевидными фактами» (110, 37).
Для русского человека, среднестатистического гражданина Правда – от Бога, а Истина – от ума.
В этом месте просто необходимо привести цитату из книги Н. Д. Арутюновой «Язык и мир человека»: «Может быть, самым важным для выяснения концептуальных истоков истины является вопрос о той оппозиции, которая лежит в ее основе. Родилась ли истина из противопоставления земной реальности другому миру, данному человеку в откровении? Идет ли речь об оппозиции сущности (идеи) и явления? Или истина предполагает оппозицию лжи (ложному высказыванию)? Этим противопоставлениям соответствуют разные концепты истины. Есть ли у них общие черты? Их объединяют, по крайней мере, четыре признака: вечность, неизменность, единственность и принадлежность к идеальному миру. Истиной не может быть непрерывно изменяющаяся во времени реальность. Проблема оппозиций истины имеет еще один аспект. Исключает ли истина (ведь она единственна) своего контрагента? Означает ли признание за истину одного из членов оппозиции элиминацию другого? Для разных контрагентов истины этот вопрос решается по-разному.
Если истиной признается некий «другой мир» или Бог (таков религиозный концепт истины), то существование тварного мира (контрагента истины) предполагается. При его отсутствии понятие истины теряет свой смысл. До сотворения мира существовало Царство Божие. Само по себе духовное начало вне его отнесенности к земной (или иной) реальности не порождает понятия истины. Бытие Бога является необходимым, но недостаточным условием существования истины в религиозном ее понимании.
То же касается и философского понимания истины как ноумена, который необходимо противопоставить феномену, логически с ним связан и не может его элиминировать. Иначе обстоит дело, когда речь идет о логической истине, противочленом которой выступает ложь (ложное высказывание). В этом случае члены оппозиции принадлежат одному плану – миру суждений.
Выбор истинного суждения исключает альтернативы. Все ложное должно быть отброшено. Функция истины состоит в том, чтобы свести множественность к единичности» (8, 544–545).
Одна из вечных истин заключается в том, что Истина – единственна. Но эта единственность возможна только при условии двойственности мира, без оппозиции, противоположности ценность Истины теряется. Истина уже не возвышается над миром, нужда в ней отпадает. Истинное суждение как альтернатива ложному есть суждение справедливого выбора из множественности. По Канту, «моральность суждений есть совершенно особая функция их <...> проблематическими называются суждения, в которых утверждение или отрицание принимается только как возможное (по усмотрению). Ассерторическими называются суждения, в которых утверждение или отрицание рассматривается как действительное (истинное), а аподиктическими – те, в которых оно рассматривается как необходимое» (125, 81).
Истина выступает как справедливость, а справедливость есть система принципов, принятых человеческой корпорацией, чтобы «преодолеть прагматику земного бытия» (8, 545), но «безграничность целого затрудняет, если и не первичную мифологическую аксиоматизацию, то уж, во всяком случае, последующую рационализацию концепта. Выход – в перенесении смысла с неохватного целого на вполне конкретное его средоточие» (120, 115).
Г. Фреге прав, когда утверждал, что «всякое повествовательное предложение, в зависимости от денотатов составляющих его слов, может, таким образом, рассматриваться как имя, денотатом которого (если, конечно, он существует) будет либо истина, либо ложь. Обе эти абстрактные вещи (истина и ложь) признаются, хотя бы молчаливо, всеми, кто вообще делает какие-либо утверждения или считает хотя бы что-нибудь истинным <...> то, что мы считаем истинностное значение вещью, может показаться неоправданным произволом, пустой игрой слов, из которой нельзя извлечь никаких интересных следствий. <...> Слово «утверждение» я понимаю не просто как понимание некоторого суждения, но и как признание его истинности, то есть как его принятие» (282, 361).
Истина стремится если и не усовершенствовать реальный мир, то хотя бы примирить многие возникающие в этом прагматическом мире противоречия. Инструментом реализации Истины является язык, который ей же и враждебен, ибо многие термины языка туманны и многозначны. Естественный язык, отражая многогранность жизни, сам становится таковым, при этом «язык постоянно ищет баланс между неполнотой информации и необходимостью вынести о ней истинное суждение. Он избегает категоричности. Естественный язык живет в борьбе с двузначной логикой, расшатывает ее законы, скрывает ясные смыслы, а логика борется против естественного языка... <...> истинностная оценка становится градуированной. Это сближает ее с концептом подобия. В сферу истинности вторгается сравнение. Действительность сопоставляется с присутствующими в человеческом сознании образами: степень сходства свидетельствует о степени истинности» (8, 546).
Истину можно знать, познавать, можно спорить о ней, Истина может открываться, Истина познается разумом, а «разум способен не только к познанию субъективной и предметной реальности, но и к ее оценке. Таким образом, он обнаруживает, что в ней благо, и устанавливает иерархию благ, а это становится основой для нормативных суждений» (61, 34). Истины общечеловеческие (здесь не имеются в виду истины, типа – «Земля вращается вокруг Солнца» и т. п.) заполняют места в иерархии ценностей и получают отражение в нормативных суждениях, они становятся правилами добродетели и справедливости, источниками для других концептов. Истины в отличие от Правд не противопоставляются друг другу. (Истина одна, а правд много.)
Правда принадлежит сфере реальной жизни и, будучи категорией жизни, дробится, распределяется между множественностью ее сфер: правда истца и правда ответчика. Разные правды борются за свое признание. «Истину проповедуют, за правду сражаются» (8, 553).
Здесь уместно процитировать мысли героя Ф. М. Достоевского из рассказа «Сон смешного человека»: «Я иду проповедовать, я хочу проповедовать – что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу! <...> все идут к одному и тому же, по крайней мере, все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разработчика, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. <...> я видел истину, – не то что изобрел умом, а видел, видел и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей <...> Главное – люби других как себя, вот что главное, и это все. Больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться. А между тем ведь это только – старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья – выше счастья» – вот с чем бороться надо! И буду! Если то все захотят, то сейчас все устроится» (98, 520).
В конфликте сторон у каждого в арсенале своя правда. Журналист «выбирает» ту правду, которая отвечает его воспитанию, умонастроению, мировоззрению или «выбранную» его изданием. Подбирается соответствующая аргументация, квалификационные признаки противника, его правда оценивается как кривда, ложь. Журналист, в отличие от судьи, не скован процессуальными рамками поиска правды и истины. Он до них докапывается, отстаивает. Он живет этой правдой. Субстанция этой правды отвечает мировидению журналиста, его видению предмета. Факты для него есть элементы его конструкции правды, отвечают его лозунгу – жить по Правде. На арену выходят принципы этики. Борьба за Правду становится доблестью, высшим и первейшим долгом. Правда оценивается как высшая ценность. «Ценна не правда факта, а факт правды» (8, 554).
В журналистике природа Истины осложнена тем, что здесь смешиваются взгляды, мнения, впечатления, верифицируются не только мысли, но и предложения, слова. В журналистике присутствует, а точнее ощущается влияние двух теорий Истины: «корреспондентной теории» и «когерентной теории истины». «Согласно традиционному взгляду, истинность предложения состоит в том, что она согласуется с фактами; по новому взгляду – теории когеренции – истинность предложения состоит в его согласии с системой других предложений» (297, 38).
И в журналистике, и в судопроизводстве применяют иногда в равной степени две разновидности Истины – формальную и материальную.
Формальная истина – это аксиомы Закона, которые не интерпретируются, под них подгоняется событие. И если факты события и факты языка (а точнее языков – истца, ответчика, прокурора) не находятся в согласии, то торжествует формальная истина.
Материальная истина предлагает другой подход. Материальная истина «есть истина синтетических предложений, предложений о фактах <...> Критерием истинности не может быть совместимость с любыми предложениями; согласие требуется лишь с некоторыми исключительными предложениями» (297, 39), т. е. применительно к судебным случаям, не только с предложениями, положенными в основу исковых заявлений, но и с другими предложениями из текста, чтобы достичь согласия с реальностью.
Однако и когерентная теория Истины грешит противоречиями: можно найти любое число согласованных систем предложений, которые будут совместимы друг с другом. К примеру, если в сказке, фантастическом рассказе отсутствуют противоречия, то, следовательно, повествование истинно.
При судебном расследовании судьи, присяжные заседатели исследуют факты, они есть предмет их внимания. Установить Истину – это выражение из следовательской практики, в суде ищут правду и судят по правде. Нужно отметить одно существенное явление: в суде Правда (судебная правда) представляет собой что-то вроде образца, эталона, ориентируясь на который, с помощью соответствующих процедур, судья из двух альтернативных правд выбирает близкую к эталону – по формальным и субстациальным признакам. Следствие занимается исключительно фактами, но «истинные факты, рассматриваемые вне целостного контекста поведения, могут давать искаженное представление о реальной картине происшедших событий» (110, 152). В функции суда кроме рассмотрения фактической стороны дела входит еще и определение судьбы человека: выявление смягчающих обстоятельств, верификация фактов, устранение неточностей в предварительном следствии, ориентация на презумпцию невиновности. Истина отчасти холодна, в определенной мере абстрактна, она ориентир, и к человеческой судьбе Истина не знает снисхождения. По Истине – не убий, а по Правде – убил, защищая жизнь, честь семьи, жены, ребенка, родителей от насильников, грабителей, то совершил благое дело.
Истина в обыденной жизни является сентенцией, максимой, постулатом поведения. И ею можно пренебречь ради реальной выгоды. Истина широко раскрываема в плане семантическом; это чужой, а точнее исторический опыт поколений, сжатый в пружину и могущий разворачиваться в идейно ориентированный текст. Истина есть нравоучение из прошлого в настоящее и будущее, и если она утилитарна на сегодняшний день («не прелюбодействуй в сердце своем»), то применима в обществе и отражает житейский опыт поколений.
Субстанция Правды – это нравственность, конструкция которой основана на нравственных принципах, нарушение или разрушение которых чревато деструкцией общественных отношений. Истина не разрушается и не восстанавливается, она концептуализованна. Правда – нравственна и идеализированна, служит для очищения, становится источником духовного здоровья.
Итак, Концепты Правды и Истины «локализованы в принципиально разных плоскостях: истина относится к Божественному миру, истина и истинность – к эпистемическому (логическому) пространству, правда – к миру человека. При вхождении в один мир – сферу человеческой жизни – эти понятия дифференцируются и по содержанию, и по оценочным коннотациям» (8, 556).
Функционально Истина – концепт ориентационный, в ее основе лежит «как должно быть». Здесь она единится с Правдой, т. к. функция правды – отделять и отличать добро от зла, мнимое от подлинного и т. д. Истина для Правды служит ориентиром. Ведь что есть добро, а что – зло? Понятие о добре и зле изменчивы? Добро ли почитать отца и мать, бросивших своих детей? Вопросов подобных последнему можно задавать до бесконечности.
В итоге мы получили ответ о стандартизации, о Правде и Истине как нравственных законах, приспособленных для целей консолидации человеческой корпорации. Истина в журналистике и юриспруденции рассматривается как справедливость, ибо установление истины есть торжество справедливости. Истина указывает на реальный факт, событие, которое описывается. Факт можно скрыть, умолчать о нем. Истину скрыть невозможно. Истина в плоскости юридической получила застывшую форму, стала догматом. Поиск истины в суде и в журналистике является основой деятельности этих структур.
Мир стандартных истин и правд лежит в плоскости отношений видимости и реальности, и только субъективизм переводит Истину в сферу прагматизма. Оценочные суждения не являются истиной, ею может быть только сама реальность.
В миропорядке различают «свои» и «чужие» истины, что объединяет Истину с Правдой. Истина противостоит лжи, речевое поведение (а оно по природе своей есть оценочное, даже точное описание содержит в себе оценку) изначально ориентировано именно на ложь. В юридической языковой практике Истина принимается как реальность, противоположность чувственному субъективному описанию. Истина связана с такой категорией, как убеждение. Признание Истины, по Канту, называется убеждением. Истина как категория соответствия, очевидности относится не только к предмету, но и к мысли.
Использование методов поиска формальной истины есть несовершенная процедурная справедливость. Судебные и журналистские ошибки вытекают именно из понимания Истины как истины формальной. Истина – Концепт ориентационный, в его основе лежит представление «как должно быть».
Выполненная в разделе корреляция Концептов Правда – Истина позволяет обосновать их многоаспектную взаимозависимость. В этом плане наиболее существенна доминирующая направленность правовых аспектов данных Концептов по отношению к философским, социологическим, журналистским.
Корреляция Концептов объясняет ту актуальную тенденцию к их размежеванию, которая еще недавно являлась спорной и определялась многими исследователями как бесперспективная. Размежевание соответствует в данном случае общепознавательной установке «различать, не разрывая». Размежеванию сопутствует дифференцированная соотнесенность данных Концептов права с категориальным аппаратом и функционированием СМИ. Так, Истина значима для аспекта убеждения, а Правда – для корреляции «факт – оценка».
Концепты Правда – Ложь
В предыдущей главе мы рассмотрели Концепты Истина – Правда, их сходство и различие. Ментальный мир современного человека воспринимает Истину как от Бога, а Правду – от земли. Правда относится к миру человека. Правда имеет в мире свою противоположность – Ложь, Кривду.
Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля дает такое толкование лжи: «лгать, лыгнуть, лыгать, врать, говорить или писать ложь, неправду, противное истине <...> Люди лгут, а нам не велят. Лжет, инно сани трещат. <...> От Бога дождь, от дьявола ложь. Всяку ложь к себе приложь, клевету. <...> Ложный ответ, отлыжный, скрывающей, искажающий истину, обман; – слух, неосновательная, неправая молва. <...> Ложность – состояние ложного. <...> Лживый – облыжный, двуязычный, склонный ко лжи <...> Лживить (кого, что), изобличать во лжи, уличать неправду, ложь, стоять за истину <...> Лже (частица), которая ставится слитно перед словом, означая: ложный, лживый, не истинный, не подлинный, поддельный или подмененный, притворный и вообще подложный. Лжеапостол, лжеучитель, лжепророк, лжецарь – обманщик или самозванец, с коварным замыслом принимающий звание, сан, имя и вид названных личностей» (96, 241).
Мартин Лютер (1483–1546), виднейший деятель немецкой церковной реформации XVI в., профессор теологии Виттербергского университета, в «Застольных беседах» так определяет Ложь: «Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, ползет ли она или лежит в покое; лишь, когда она мертва, она пряма и непритворна» (309, 225).
В Книге притчей Соломоновых Ложь в предостережении от семи грехов занимает одно из первых мест: «Вот шесть, что ненавидят Господа, даже семь, что мерзость души Его: глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями» (45, 851). И там же в Притчах: «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели (богатый) со лживыми устами, и притом глупый». «Лжесвидетель не остается ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет» (45, 867). «Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение» (45, 878).
Граница между Правдой и Ложью весьма прозрачна и зыбка, зависит от многих факторов, от восприятия, понимания события, факта. Ложь и Правда есть суть человеческих отношений, они единство и борьба противоположностей. Ложный взгляд на событие не обязательно ложный в прямом значении этого слова. Он может быть ложным на определенном этапе развития общества. Ложные суждения как заблуждение – это иное видение события, добросовестное заблуждение, если оно не вызвано частным, корыстным интересом поддерживать именно такое видение. Люди всегда боролись с Ложью, но в этой борьбе к помощи лжи прибегали достаточно часто.
Абсолютная Правда и абсолютная Ложь представляют собой идеальные образцы поведения. Правда существует как бы a priori, до события. Ложь возникает a posteriori, она есть отражение события, отягощенного интересом. В стихотворении Вальтера Ролея (1552–1618) «Ложь» высказана мысль, что Правду безопасно говорить после смерти.
«Душа! Покинув тело, / Мир облети скорей,/ Разоблачая смело / Всю ложь его путей. / Я смерти жду, – лети же / Мир обличить бесстыжий. / Двору скажи: «Сверкая, / Ты гнилью весь пропах! / А церкви: «Ты – святая, / Увы, лишь на словах!» / Услышав возраженья, /Не отступай в смущенье. / Врачебному искусству скажи: «Ты сеешь ложь». / А благочинью: «Чувства в тебе нет ни на грош». / Скажи искусству: «Праздным хлыщам ты льстишь всегда!». / Ученым школам разным: «Страсть к правде вам чужда». / Когда все эти мненья Ты выскажешь подряд, / Тебя за обличенье / Прикончить захотят. / Но это не опасно: Смерть над тобой не властна» (219, 457).
Интересная мысль Ролея: Душа есть Правда, а тело есть Ложь. Поскольку Души без тела не бывает, также как и тела без Души, постольку между ними всегда будет вечная борьба. Правда хороша, когда Телу уже ничто не может повредить. Борьба за Правду (какую?) благородна, но всегда есть вероятность, что «эта» Правда потом трансформируется в Ложь. Вспомним борьбу Реформации в Германии против Рима и что получилось в итоге.
В ментальности русского человека между Ложью и Правдой лежит четкая граница. «Ложь – кривая», «Что лживо, то гнило», «Ложь на одной ноге стоит, а правда на двух», «Темные дела света боятся», «Ложь стоит до улики», «Лгун по песку идет: чем дальше, тем труднее», «Маленькая ложь ведет за собой большую», «В каждой лжи есть доля правды», «Умная ложь лучше глупой правды» (206, 362). Две последние поговорки дают оправдание Лжи, свидетельствуют о ее необходимости в обществе. Если во лжи есть доля правды, то и в правде, вероятно, есть доля лжи.
Глаголы «врать» и «лгать» – синонимы. Но не всегда они взаимозаменяемы. Лгут умышленно, преследуя какую-либо определенную цель. Но ложь не всегда в основе своей имеет умысел. Ложь может быть и искренней, т. е. видение предмета, события может не совпадать с тем, которое на данный момент считается правдивым. «Для человека правдой является только та истина, в которую он верит. В ситуациях общения объективно истинное событие становится для партнеров правдой только тогда, когда они верят, что это событие в самом деле произошло» (110, 97).
Данные экспериментальной психологии свидетельствуют, что передача любой информации никогда не бывает дословным ее воспроизведением. Рассказ – это всегда такая реконструкция текста повествования, которая включает в себя не только известные элементы события, но и новые. Наличие реконструируемых элементов в новом тексте обычно служит указанием на то, что человек внутренне ориентирован говорить правду. Если же текст устного повествования стабилен, т. е. человек дословно производит несколько раз один и тот же текст, то это свидетельствует о том, что он лжет и боится сбиться с избранного пути. Здесь, вероятно, сказывается действие «защитных механизмов» сознания. «Смысл защитных механизмов сознания заключается в том, что они вытесняют или подавляют всю эту информацию из сознания, которая мешает или противоречит деятельности и поведению человека в конкретной ситуации» (288, 79).
Интересную мысль высказал В. В. Знаков в своей книге «Психология понимания правды»: «...есть множество путей, которыми можно правдиво и реально структуировать и переструктуировать свой опыт... именно то, что в данный момент переживается с большой эмоциональной интенсивностью, имеет тенденцию субъективно пониматься как правда» (110, 103).
«Субъективно пониматься как правда» – эта формула известна журналистам, готовящим материал, который требует оценочных суждений. Событийная информация в СМИ о событиях как таковых (аварии, полевые работы, совещания, презентации и т. д.) не несет в себе искажений, читатель получает ответ на три вопроса: что? где? когда? Здесь господствует правда голого факта. Но как только к этим вопросам добавляются: каким образом? почему? кто виноват? кто бы мог подумать? в чем причина? – то голый факт становится объектом анализа и синтеза рассуждений, субстанцией с разными смыслами, слова получают иное толкование. В действительности же голого факта не существует, это миф журналистики и юриспруденции.
Правда факта генерирует аксиологическую Ложь, хотя описание события не изменилось. Сюда же примешивается различие в понимании Истины и Правды, психологические особенности восприятия информации мужчинами и женщинами. Психологи со всей ответственностью утверждают, что мужчины под Правдой обычно понимают суждения, которые адекватно, с большой долей достоверности отражают события, явления, ко всему прочему, полученная информация должна вписываться в жизненный опыт адресата. В сознании женщин понятие Правды чаще всего связывается с оценкой выражения мыслей и чувств, у них правдивость отождествляется с искренностью. В любой коммуникационной ситуации женщина руководствуется принципом: «Если я искренне убеждена в истинности того, что я говорю, значит, я говорю правду». Это свидетельство гендерных различий – «правда» выражает объективность отражения не внешнего мира, а внутреннего мира женщины, т. е. ее убеждений и мнения. Стиль слушания у мужчины сфокусирован на информационный уровень разговора, его фактуальную базу, логическую последовательность, а у женщин присутствует ориентация на взаимоотношения, т. е. метаинформационный уровень.
В поисках Правды и Лжи в ходе судебного следствия кроме герменевтических методов исследования текста публикации необходимо применять гендерную экспертизу. Понятие экспертизы (expertus – опытный) известно широкому кругу людей и в расшифровке не нуждается. Иное дело термин гендер. В научной литературе существует несколько подходов к его определению. Гендер (gender – род) – сложный социокультурный процесс продуцирования обществом различий в мужских и женских ролях, поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках. «Сущность гендерных различий в том, что они конституируют (утверждают) доминирование в обществе маскулинного (мужского) и подавление феминного; гендерные роли определяют отношения мужчины и женщины через категории доминирования и власти. Гендер, таким образом, оказывается одним из базовых принципов социальной стратификации» (64, 5).
Интересны замечания Чезаре Ломброзо об умении людей выстраивать виртуальные миры своего видения ситуации. «Мужчина, убедившись, что ложь его ни к чему не ведет, обыкновенно перестает запираться и сознается; женщина же никогда не сознается в совершенном преступлении и продолжает с величайшей энергией оправдываться, несмотря на всю нелепость ее оправданий» (144, 477).
В целом поведение людей, не представших перед судом, мало чем отличается от поведения людей, вышедших на суд, преступивших закон. «Оправдание преступницы, – говорит Ч. Ломброзо, – отличается сложностью и нелепостью, т. е. той именно запутанностью, которую мы так часто находим в планах их преступлений. Мы опять встречаемся здесь со свойственной даже нормальным женщинам лживостью, но осложненной и доведенной до крайних пределов. <...> Логичность фактов не имеет в глазах их никакого значения, потому что они, как женщины, не признают силы неоспоримой убедительности и думают, что все рассуждают так же, как они.
Прибегая ко всевозможным выдумкам с целью оправдать себя в глазах судей, преступницы совершено не видят всей нелепости их, ибо в них очень слабо развита та логика мышления, которая должна была бы удержать и от противоречий. К этому присоединяется еще действие самовнушения, благодаря которому они, в конце концов, начинают сами верить в часто повторяемую ими ложь, – само внушение, влияние которого тем сильнее, чем скорее сглаживается из их памяти воспоминание о совершенном преступлении. С течением времени, когда истинная суть самого злодеяния ими почти совершенно забыта, они помнят только свой собственный вымысел, не заботясь уже о том, насколько он соответствует истине» (144, 479–480).
Пространная цитата из книги Ч. Ломброзо дает нам возможность посмотреть на проблему Правды – Лжи в журналистике и судопроизводстве с необычного угла зрения. С преступницами и их лживостью дело ясное. Они борются за свою свободу. А вот каково восприятие женщин журналистов и судей тех фактов, которыми они оперируют, как они оценивают события, какие решения выносят? Если женщина-журналист, написавшая критический материал и ставшая ответчицей по гражданскому делу о защите чести и достоинства в суде, то (вспомним Ломброзо) ведет на процессе себя так же, как и в своей публикации – напористо отстаивает свою точку зрения, именно точку зрения, а не соответствие сведений действительности. Ко всему прочему она начинает обвинять всех в том, что они хотят ей зла, что вокруг враги свободы слова, которую только она одна защищает. Ложь, в данном случае иное видение проблемы, становится состоянием сознания. Так же ведут себя женщины-истицы по делу, преподнося суду свое видение, понимание журналистского текста, осложняя его новыми, кажущимися им важными, деталями, которые в итоге почти полностью изменяют содержание первоначального текста.
Ложь как состояние сознания характерна не только для женщин. Мужчина-журналист, конструируя текст своей публикации, опирается больше на логику и искажает истину, преследуя свои интересы. В большинстве случаев он знает, что он делает с Правдой.
Журналисты, пользуясь правом на информацию и распространение информации, взяли в свои руки одно из важнейших звеньев современной системы власти. Право на информацию принадлежит всем членам общества, но на сегодняшний день оно трактуется как право журналистов. Закон РФ «О средствах массовой информации» предполагает распространение полной, разнообразной и правдивой информации, но не гарантирует выполнение этой задачи. Ограничения на распространение недостоверной информации заложены в п. 2 ст. 49 («Обязанности журналиста» – проверять достоверность сообщаемой им информации), ст. 51 («Недопустимость злоупотребления правами журналиста»), ст. 59 («Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации»), ст. ст. 43, 44, 46 («Право на опровержение», «Порядок опровержения», «Право на ответ»). Однако право на достоверную информацию нередко, а если говорить честно, то в большинстве случаев искажается уже при отборе информации, редактировании текстов.
Смена «хозяев» российских СМИ привела к тому, что произошла смена интересов в подаче фактологического материала. Информационное поле, т. е. совокупность представленных в СМИ явлений, событий, происшествий, реальностей, поделено разными СМИ. Событие А может получить и получает разные оценки в разных СМИ. «Борясь с диктатом, некоторые издания сами употребляют свое влияние для насаждения диктата прессы. Свобода массовой информации все чаще понимается как беспредельная свобода средств массовой информации. При этом многие издания «умело» пользуются нормами закона о праве не раскрывать источник информации. Если же в судах дела проигрывают, то прибегают к негодному штампу: клевете на первой полосе под броской шапкой и опровержение мелким шрифтом в конце, да еще с оскорбительными комментариями» (199, 230).
В условиях монополизации и концентрации СМИ в руках определенных экономических и политических групп идеологию распространяемой информации определяют экономические и политические интересы владельца, его вкусы, симпатии/антипатии. Адресаты получают уже идеологически выстроенную информацию, в которой заложена доля лжи. Прогнозы, версии, самодельные социологические исследования, опросы, отчеты ангажированных аналитических центров, грязные PR-технологии – вот далеко не полный список проявления Лжи в средствах массовой информации, реализации функции информационного насилия. Желание добиться популярности толкает некоторые издания на распространение и насаждение культа насилия, расового превосходства, порнографии, пропаганды мистики и оккультизма.
Ложная интерпретация события нередко заложена в результатах социологических исследований, которые затем распространяются в СМИ. В начале 90-х годов прошлого века на страницах многих газет появлялись материалы социологических исследований о том, что свыше 90 процентов московских школьниц хотят стать проститутками. Причем здесь использовалась «фигура умолчания» – в тексте не давалась информация о методике проведения исследований, количестве респондентов, методике обработки полученного материала. Шло смакование преимуществ занятия проституцией, о начале процесса «сексуальной революции» в России. О теневой же стороне жизни проституток – ни слова.
Распространение ложной, недостоверной, а нередко и оскорбляющей чувства читателей и персонажей информации диктуется политическими, идеологическими, экономическими соображениями, интересами владельцев СМИ или заказчиков.
Примером оскорбительной информации может служить публикация в еженедельнике «Собеседник» «Женщины России: воздержание до победного конца», в которой сообщается, что парламентская фракция «Женщины России» якобы планирует провести по всей стране месячник «закрытых корзинок, бойкотировать одновременно любые сексуальные домогательства своих мужей, друзей, любовников». Публикация была признана ложной, оскорбительной, пошлой и грубой. Судебная палата по информационным спорам при президенте России выяснила, что редакция сознательно исказила информацию, полученную от своего источника.
Ксенофобия питается исключительно Ложью. Примером националистической лжи может служить публикация «Чеченский узел. 13 тезисов» в газете «Новый взгляд». В Судебной палате рассматривалась данная публикация, и ей дана такая оценка: «Автор характеризует чеченскую нацию как «полудикую», знаменитую «только своим варварством и угрюмой свирепостью, не давшую миру решительно ничего, кроме международного терроризма и наркобизнеса». Судебная палата признала публикацию ложной и оскорбительной, что она служит целям возбуждения национальной, социальной, религиозной ненависти и вражды» (187, 103–104).
Лживость понятий и идеологических систем тесно связана с языковой ложью. Информация становится ложной при условии, когда нужно скрыть имеющуюся действительность и на базе правдоподобного события построить «новую» действительность. «Язык становится и символом начала эксперимента, и все более эффективным инструментом для его успешного завершения. Идеологический человек исходит из общих и не всегда явно сформулированных представлений. <...> компенсируя принципиальную неспособность владеть и распоряжаться, новоявленный хозяин начинает управлять языком, и притом в самой таинственной, менее всего поддающейся управлению области смысла» (84, 65–66). Гусейнов достаточно явно выражает мысль, что после 1917 года «хозяином» языка стала новая социальная сила, которая, проводя социальный эксперимент, выбросила из языка многие ключевые слова, и воспитала нового идеологического человека. И этот «новый человек», уже «лишенный свободы называть вещи своими именами носитель языка вырабатывает прочные речевые предпочтения, недоверие к истине текста и уважение к истине подтекста, презрение к неостроумному, стремление к определению предмета взамен его познания с помощью слова.
Мощной силой, формирующей эти предпочтения, стала печать, тяготеющая к высокому штилю, она легко овладевает верхними, заповедными горизонтами языка и, бесконечно отрываясь от так называемой текущей жизни, внушает своим подданным <...>, что наступил новый режим речевого поведения: печать, уполномоченную формировать сознание людей (обращаясь к ним с приказом, проповедью, угрозой), положено не читать и слушать, а слушать и чтить» (84, 68). Здесь Гусейнов прав, но не до конца. В российском мировоззрении давно сложился авторитет печатного слова. «Бумаги листок на руке легок, а выйдет из-под руки – тяжелей каменной горы станет», «Написано пером – не вырубишь топором» и т. д. Вера в печатное слово, особенно в официальных СМИ, всегда в России была велика. Идеи, получившие в СМИ карт-бланш, настойчиво тиражируются, пропагандируются и внедряются в массовое сознание: идеологические компании – «рыночные отношения», «ваучеризация», «сексуальная революция», «приватизация» и т. д. По мнению многих исследователей, пропаганда есть «активизированная идеология», которая стремится втиснуть информацию в определенные рамки и отвлечь адресата от вопросов, которые за эти рамки выходят. Поэтому не случайно под пропагандой часто понимают что-то нечестное – об этом свидетельствует уже тот синонимический ряд, в который помещают сам термин «пропаганда»: Ложь, искажение, манипуляция, психологическая война, промывание мозгов.
В зависимости от источника и достоверности информации они различают «белую», «серую» и «черную» пропаганду. «Белая» пропаганда характеризуется тем, что ее источник можно установить с большой точностью, а информация соответствует действительности. При «серой» пропаганде источник точно определить нельзя, а достоверность информации находится под вопросом. «Черная» пропаганда использует ложный источник, распространяет ложь и сфабрикованные сообщения. Пропаганда может строиться на широкой гамме сообщений – от правды до откровенной лжи, но всегда в ее основе лежат определенные ценности и идеология (126, 243–244).
Для распространения, а точнее формирования, Лжи существует немало способов. Ю. И. Левин выделяет «четыре семиотичеких типа искажения истины, в основе каждого из которых лежит то или иное преобразование реальной ситуации: 1) аннулирующее преобразование – умалчивающие описания, пределом которых является нулевой текст; 2) фингирующее преобразование, состоящее во введении в ситуацию «посторонних» предметов и/или событий; 3) преобразование индефинитизации, при котором аннулируется часть свойств предмета или предиката, в результате чего ситуация оказывается неопределенной; 4) модальное преобразование, изменяющее модус (способ существования) предмета, предиката или события – скажем, когда возможное выдается за действительное» (126, 244).
В гражданских делах о защите чести, достоинства и деловой репутации истец, как правило, абсолютизирует смыслы и категории имен. В соответствии с концепцией Фреге «смыслы имен, входящих в предложение, детерминируют смысл всего предложения, а референция имен определяет референцию предложения. <...> нужда в референциях имен возникает тогда и только тогда, когда необходимо определить истинностное значение предложения. Отсюда референция предложения есть его истинностное значение» (46, 23). [Референция – отнесенность актуализированных / включенных в речь / имен, именных выражений (именных групп) или их эквивалентов к объектам действительности (референтам, денотатам) (304, 411).
В целом на реальной информационной и фактуальной базе выстраивается ложная конструкция, которая затем проявляется в исковом заявлении, содержащем в себе «маркеры лжи».
Искажение действительности в журналистских текстах не всегда проявляется в форме полного искажения или создания ситуации, которой не было в действительности. В СМИ, как правило, используют факт, «имевший место быть», но демонстрируют его читателям/зрителям под таким углом зрения, что этот «угол зрения» практически меняет семантическую значимость факта-события. Используются разные типы Лжи: а) параноидальный; б) ложь политической выгоды; в) дискредитирующая ложь; г) пафосная ложь или ложь трибунной лексики; д) интерпретативная ложь (интерпретация, по Фуко, – «это способ реакции на бедность высказывания и компенсирования путем умножения смысла, способ говорить, исходя из нее и помимо нее» (277, 121); е) рекурренционная ложь (рекурренция: любое высказывание содержит поле предшествующих элементов, по отношению к которым оно располагается, но которое оно способно реорганизовывать и перераспределять в соответствии с новыми отношениями); ж) аксиологическая ложь или ложь оценки.
Параноидальная ложь содержит в себе признаки полной непроверяемости исходных фактических положений, рассчитанных на эмоциональное восприятие. Система аргументации носит идеологизированный характер и не поддается рациональной обработке.
К примеру, в западных СМИ это тема «рука Москвы», «агенты КГБ», в советских, а затем российских – «жидо-массонский заговор», «вездесущие агенты ЦРУ», «предательство интересов России» и т. д.
Ложь политической выгоды и дискредитирующая ложь достаточно тесно связаны. Материал, как правило, построен композиционно жестко, фактуальная база сжата, при этом она рассчитана на то, что читатель (слушатель) сам развернет новое полотно повествования, исходя из собственного разумения и знания событий. Нежелательные факты опускаются, действительность трансформируется самым примитивным образом – путем преобразования (за счет манипулирования с частицей «не») утверждения в отрицание или наоборот. «Так называемая схоластами инфинитизация, т. е. соединение категорематического выражения с «–» и «не» дает в итоге новое выражение с совершенно определенным значением. При помощи составленного с «ничто» выражения совершается дихотомическое разделение представлений» (261, 58). Реальные и вымышленные события, факты «перемешиваются», включается в действие фонд потенциальных знаний читателя, что «такое» вполне возможно, а следовательно, реально.
Выявить такую Ложь сложно, а иногда просто невозможно, поскольку необходимо сделать громоздкий анализ всех входящих в текст составляющих и, в частности, определить референцию имен. «Нужда в референциях имен возникает тогда и только тогда, когда необходимо определить истинностное значение предложения» (46, 23). Это означает, что текст, состоящий из предложений, а предложения из слов, «разлагается» на составные, из которых одна часть может быть ложной и тогда, по законам логики, все целое будет ложным, а не истинным. Жесткие правила формальной логики, безусловно, приводят нас к этому выводу. Однако каждая единица текста «нагружена» смыслом или включена в смысловую сеть, следовательно, «смысл составного предложения определяется лишь смыслами его конституент, смысл предложения может быть объективным только в том случае, когда объективны смыслы входящих в него имен» (46, 27). Дискредитирующая ложь часто маскируется референциальной неопределенностью и семантикой языковых единиц.
Пафосная ложь или ложь трибунной лексики характеризуется эксплуатацией примитивных формул суждения («все предприниматели – воры, работники правоохранительных органов – продажные», «везде берут взятки», «простому человеку в этой стране помощи ждать неоткуда»), использованием аварийных речевых предпочтений (ярлыков, «клейменных» литературных персонажей, притчей, анекдотов и т. д.) Яркость языковых средств и образов заменяет смысловую основу текста. Цель пафосной лжи в том, чтобы у адресата в памяти осталась только негативная оценка события или личности. Причем оценка – формула должна при пересказе разворачиваться в той же последовательности, но и «обогащаться» новым содержанием и новыми языковыми элементами.
Примером пафосной лжи может служить статья «Послание в … свинарник» в газете «Кубань лесная» (№ 1, 1999 г.): «Кубань лесная» – «наследница ленинской «Искры» и «луч света в темном ельцинском царстве», «за всей этой позолоченной словесной шелухой проглядывает отвратительное рыло дикого зверя – кабана, готового разорвать в клочья всех, кто не следует твоей дьявольской морали», «знаю, на этот прямой вопрос ты, Иуда, сейчас не ответишь», «посмел В. Г., гражданин СССР, лишенный советского наследства, вызвать С., ельцинского сатрапа, на решающий политический поединок, подражая бесстрашному Айвенго, тоже лишенному наследства, который бросил вызов на смертный бой кичливому храмовнику-крестоносцу Бриану де Буагильберу», «почему ты пытаешься заглушить набатный зов истинных патриотов, взывающих к спасению России от врагов...» Пафосной лжи присуща идеологическая функция.
Интерпретативная ложь преследует цель на базе реального события построить новое событие – текст. Высказывание о событии, лексическое его отражение изначально бедно, психический слепок (образ) сжат до минимума, эмотивная функция текста почти равна нулю. Эта искусственная минимизация информации о событии компенсируется путем умножения смысла (или смыслов) в другой части текста, в комментарии, интерпретации, а по сути, в новом тексте. Здесь автор использует лукавую формулу – «рассуждение может быть и ошибочным, но оно имеет право на жизнь». Автор ничего не утверждает, он лишь приглашает к разговору, обсуждению, озвучивает свою «внутреннюю правду», умалчивая аргументацию contra. По мнению Мишеля Фуко, «высказывание всегда имеет края, населенные другими высказываниями» (277, 98). Нравственные обязательства представить противоположные аргументы не выполняются. «Акт умолчания выделим только в системе нравственных обязательств, т. е. в рамках сильной этики, безоговорочно требующей сообщения правды. Нормы общения рекомендуют иногда смолчать, прескрипции исключают умолчание. Они неукоснительно требуют сообщения правды. Выполнение этого требования безальтернативно, а невыполнение соответствует двум поведенческим вариантам: лжи и умолчанию. Сильная этика относит умолчание и ложь к одной категории и оценивает оба этих акта отрицательно. Слабая этика, оперирующая нормами общения, приравнивает несообщение информации к акту не-лжи. Этика прескрипции, напротив, склонна приравнять умолчание ко лжи» (8, 591).
Рекурренционная ложь характеризуется тем, что любое высказывание имманентно содержит в себе поле предшествующих, значимых и знакомых адресату элементов, по отношению к которым оно располагается. Поле предшествующих элементов способно, за счет других входящих в него элементов, видоизменить и перераспределить логические связи, перцепции в соответствии с новыми, возникающими отношениями. «Фаза доступа к значениям, а не фаза принятия решения, приводит к селекции одного значения в зависимости от того, что известно о ситуации» (221, 13). К примеру, «Декларация не обеспечила человеку неотъемлемого права на достойную жизнь. По сравнению с 1990 годом Россия стала государством, где правит бал коррупция, мафия, голод и нищета, налицо бесправие абсолютного большинства населения, а российская государственность превратилась в нечто аморфное, образование, пропитанное преступностью снизу доверху, где игнорируют законы все, кому не лень» (170, 2). В тексте на Декларацию перенесены функции Конституции, поле предшествующих элементов. В элементе «в сравнении с 1990 годом» имплицирован текст, что Россия до этого времени была республикой, в которой царило торжество закона, не было коррупции, мафии, нищеты, преступности и т. д. Интенции автора были генерированы новыми семантическими отношениями слов «коррупция, мафия» и т. д., которые стали общеупотребительны в российских СМИ. «В семантической сети есть и прототипы, и свойства. Согласно интересной гипотезе, предложенной Брамо дю Бушероном и Бернико, при усвоении смысла слов свойства конструируются, исходя из прототипов: свойства начинают конструироваться с того момента, когда множество прототипов ассоциируется со словом» (221, 24).
Аксиологическая ложь (от греч. axia – ценность) или ложь оценки ценностей.
В психологии понимания концепты Истина и Правда анализируется с учетом органического единства трех составляющих аспектов:
а) гносеологичекого (отражение, образ);
б) аксиологического (ценность);
в) практического (применение истинных знаний).
Истина несет в себе свойства обобщенности и всеобщности для того круга людей, которые эту истину исповедуют. (Белогвардейцы сражались за Россию и красноармейцы сражались за Россию. И для тех и для других истина заключалась в России – великой, неделимой, могучей и т. д.) Правда же есть такая истина, которая становится предметом личностного отношения субъективной оценки. «Оценка субъектом своего или чужого истинного суждения зависит от характера понимания им обсуждаемого поступка, его ценностно-смысловой позиции и мировоззрения» (110, 106). Позиция и мировоззрение, идеологические установки в контексте личностного знания включают знание и систему оценок, присущих той общественной среде, в которой воспитан и живет субъект.
С точки зрения психологии и языка ценности (ценность) зависит от мотивации (побуждений субъекта общения и познания) и этической оценки или субъективной значимости истинного знания. И мотивация, и этическая оценка несут в себе смысл, который «возникает в субъективном значении выражения <...>, смысл становится объективным только после освобождения от конкретной субъективности» (158, 37). Общение, познание, оценивание, описание всегда в той или иной мере пристрастно, субъективно, отражает характер побуждения или целого узла побуждений, что может искажать истинность получаемой и передаваемой информации. Получаемая информация, проходя через фильтры субъективности, уже искажается. «Искажение может быть следствием проявления защитных механизмов личности, результатом влияния которых оказывается отрицание человеком очевидных фактов» (110, 107).
Правда есть правильность и справедливость, соответствие общепринятым нормам поведения людей. Ценности при этом играют немаловажную роль. Следование истинным или ложным ценностям дает возможность определить, идет субъект путем правды или лжи. Правда не является конечной целью межличностного общения или познания, она высказывается с определенной целью, включает интенцию субъекта реализовать правдивые сведения в коммуникативной ситуации, причем ценности здесь выступают как универсалии смысла, кристализующиеся в типичных ситуациях, повторявшихся неоднократно в истории человечества. Знание ценностей облегчает поиск смысла, помогает рационально их применять и нарушать. Ответственность принятия решения перекладывается на ценностный фонд человечества.
Аксиологическая ложь или ложь ценностей наиболее ярко выражена в лозунгах и ценностных формулах. В «Интернационале» Эжена Потье есть строка, которая переводится как «Сделаем из прошлого чистую доску» (здесь использовано латинское выражение tabula rasa – «чистая доска», нечто чистое, нетронутое). В русском переводе А. Каца эта фраза содержит несколько иную ценностную ориентацию – «Весь мир насилья мы разрушим». Мир насилия без насилия (прямого и кровавого) разрушить невозможно, а созданный новый мир нужно защищать и укреплять только с помощью насилия.
«Разум способен не только к познанию субъектной и предметной реальности, но и к ее оценке. Таким образом, он обнаруживает, что в ней благо, и устанавливает иерархию благ, а это становится основой для нормативных суждений» (61, 34).
Ценности «наши» и «чужие» всегда оцениваются, исходя из идеологических установок, при этом последние тоже представляют собой ценности временные или постоянные. Симметричное распределение оценочных знаков (плюс для своих и минус для чужих) по идеологическим объектам характерно для средств массовой коммуникации с характерным для них идеологическим примитивизмом (сравним: «дерьмократы» – «коммуняки» и т. д.). Оценки в СМИ заменяют логическую аргументацию и приобретают характер и силу аргументов при условии интенсивного эмоционального их восприятия. Одним из важных приемов подобного рода аргументации является субъективное и насильственное ограничение объема понятий, их оценочная переориентация.
Отделить Правду от Лжи в информационном потоке необычайно сложно, т. к. информационное поле есть категория аксиологическая и связана с понятием информационной нормы. СМИ должны выдавать на гора всевозможные фрагменты действительности. Но это в идеале. На практике же существует немало ограничений и информация дозируется, что опосредованно или непосредственно ведет к информационной лжи. Информация может восприниматься как ложная даже в зависимости от того, в каком СМИ она распространена («о Зюганове в «МК» правду не напишут»). Тип понимания правды об окружающей социальной действительности во многом зависит от познавательных компонентов познавательной деятельности (мотивации, суждений и т. п.), нравственной позиции адресанта и адресата, характера моральных установок, глубины идеологических принципов, личностной ориентации, т. к. «познание того, что уже известно, есть действительное явление опыта, хотя и варьированного отношением к сфере сущностей, которые выходят за пределы этого непосредственного события, благодаря тому, что они имеют сходные и различные связи с другими событиями опыта, <...> каждое действительное явление находится в сфере альтернативных, взаимосвязанных сущностей. Эта сфера раскрывается посредством возможных неистинных высказываний, которые могут быть приписаны этому явлению. Это есть область альтернативных намеков, чье основание в действительности шире области действительных событий». Отсюда следует, что «понимание действительности нуждается в отнесении к идеальности» (270, 219). «Событие приобретает определенность пропорционально значимости (для него) неистинных высказываний: их отнесенность к событию не может быть отделена от того, что представляет собой событие в законченном виде» (270, 220). Актуализация события, т. е. система обработки и распространения информации о событии в СМИ, есть отбор возможностей, рассмотрение информационной индивидуальной сущности в ее уникальности.
Правдивые, неискаженные сообщения о событиях, истинных фактах люди могут воспринимать и понимать по-разному – как правду инструментальную и нравственную.
Инструментальная правда является, по сути дела, правдой документальной, характерной для следствия, судопроизводства и журналистики. Здесь на первом месте стоит точное описание событий, явлений объективной реальности, беспристрастная фиксация в ущерб богатству языковых возможностей. Квалификаторами инструментальной правды могут быть утилитарные соображения: а) знание негативных явлений необходимо для того, чтобы предотвратить их возникновение в будущем; б) публикация таких сведений может пригодиться (в журналистике это «слив компромата»); в) надо располагать такой информацией, чтобы сформировать правильное мировоззрение. Инструментальной правде присуща позиция «сверх-Я», ориентация на свое внутреннее состояние, эгоцентризм в чистом виде. (Вспомним чеховский рассказ «Радость», где Дмитрий Кулдаров был рад заметке в газете, что «находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь» и теперь о нем узнает вся Россия.) В среде журналистов существует убеждение, что некоторым людям приятно оказаться в центре внимания СМИ. Приверженцы инструментальной правды считают, что добро вознаграждается, а зло наказывается, справедливость всегда будет торжествовать. Это поддерживает их, дает ориентиры в жизни.
Инструментальная правда зависит от степени совпадения должного (идеального) и реального, т. е. «социально одобряемой и официально допустимой гласной «нормы правдивости» с реальными фактами, полной картиной происходящих в обществе событий» (110, 150). Инструментальная правда зависит от стремления говорить правду, от осознанной позиции жить в рамках «нормы правдивости». Таким образом, нормой в журналистике и юриспруденции должна быть правда «должного», т. е. количество фактов должно приближаться к абсолютному. Понимание инструментальной правды есть восприятие каждого факта как ценности, части целого. Причем истинные факты не должны выпадать из целостного контекста, чтобы не искажать объективного представления о событии.
Рефлексивная (нравственная) правда, как правило, проявляется в текстах, суждениях, высказываниях людей с высокоразвитой способностью к личностной и коммуникативной рефлексии, со склонностью подвергать сомнению свои оценки и поступки, критически их оценивать. Рефлексивная правда находит свое отражение в критике, а точнее в критическом отношении не столько к фактам, сколько к смыслу текста, содержащему фактический материал. Идет процесс расследования, относительно какого текста эти факты истинны (правдивы), а какого – ложны. Правда становится относительной, зависящей от интерпретации. «Согласно точке зрения С. Л. Рубинштейна, правдивость или ложность любого суждения зависит не от искренности субъекта, а от того, «адекватно или неадекватно оно выражает убеждение субъекта в истинности или неистинности того или иного положения» (110, 198).
Выделяются четыре аспекта правдивости: первый аспект – правдивое поведение, т. е. добровольное следование норме правдивости, даже если ее нарушение сулит человеку определенные выгоды при безнаказанности его действий. Второй аспект связан с мотивационно-потребностной сферой личности, определяющей правдивое отношение к другим людям. Мотивационный компонент оказывается промежуточным звеном, связывающим когнитивную и поведенческую сторону правдивости, превращающим знания в убеждение и убеждение в соответствующие формы поведения.
Третий аспект – когнитивный, включающий моральные знания, представления и суждения, связанные с нормой правдивости.
Четвертый аспект – это переживание собственной или чужой правдивости в плане самосознания при нарушении или, наоборот, следовании нравственной норме (110, 198–199).
Ложь, несмотря на свою многообразную природу проявления, основана на трех антиподах правды: а) утверждение говорящего (пишущего) не соответствует фактической стороне дела, имеющимся фактам; б) адресант не верит в истинность своей информации; в) адресант знает, что его информация ложная, но имеет намерение (мотивы) ее растиражировать.
При получении информации (текста) адресат должен репрезентировать себе то, о чем говорится. Если мы неспособны «отделить зерна от плевел», представить или выразить ситуацию, в которой индивид и события имеют связи, указанные в тексте, то мы не получим настоящего понимания текста, а следовательно, Ложь или Правда останутся невыявленными и невыделенными. Понимание текста, а вместе с ним понимание Лжи или Правды имеет самые разные смыслы в зависимости от того, что из него будет понято: воспроизведение, узнавание, выполнение того, о чем говорится в тексте, решение проблемы, оценивание и т. д.
Правда необходима, чтобы вынести правильное этическое (нормативное) или оценочное суждение, что и отличает Правду от Истины. «Истина сама есть цель, правда имеет цель. В правде заложен переход от алетической модальности к деонтической, от есть и нет к должно и не должно» (8, 614–615).
По мысли папы римского Иоанна-Павла II, «действия человека всегда особенны, конкретны, а принципы, обозначенные и обоснованные в этике, – абстрактны, обобщены. Тут встает вопрос: как связаны общие принципы с конкретными делами, если, конечно, принципы должны ими управлять или если мы должны судить о поступках, исходя из этих принципов?
Этим и занимается отчасти так называемая казуистика (от «казус», «случай»). Предмет ее – факты или события, подлежащие моральной оценке. В каждом таком факте или «случае» необходимо учитывать частные обстоятельства – и внешние, и внутренние – связанные с ситуацией (внутренней или внешней), в которой оказался человек, с его характером и его взглядами. В этих условиях каждый должен сам обосновать, хорош или дурен совершаемый им поступок. Это дело его совести. Немалую роль здесь может играть духовное (или внутреннее) руководство. Одними людьми руководят другие, самые разные, а не только те, кто «по специальности» руководит чьей-то совестью – родители, друзья, воспитатели. Законно ли это, может ли кто-то иной быть судьей в моем деле? Практика показывает, что да. Другому легче быть объективным, ведь «сам я» погружен в ситуацию. Нередко другой вообще лучше понимает и меня, и то, что я могу, и то, что я должен сделать» (61, 28–29).
Правда не может быть фрагментарной, частичной, иначе она оборачивается в полуправду, что в итоге есть ложь. Количество полуправд, сколько б их не было, не сможет в сумме дать одну Правду. Изложение голых, чистых, правдивых фактов еще не есть изложение правды, если не соблюдено условие их связности и осмысленности. «Истинность правды определяется не только количеством фактической информации, но и ее структурой. Если истины, ассоциируемые с общими суждениями, терпят ущерб от невозможности их верификации, то правда, ассоциируемая с фактической информацией, несет урон от ее неполноты, «перекосов» в отборе и искажения связей между ее частицами» (8, 616).
Любая информация о событии, существующая до ее оформления в виде текста информатором-адресантом для передачи адресату для того, чтобы стать правдивой (правдой), должна отвечать следующим требованиям: а) иметь достоверный, фактический характер; б) быть достаточно полной, адекватной самому событию; в) иметь возможность для верификации; г) соответствовать теме; д) субстанция события не должна быть отягощена идеологией его описания.
Ложь – это действие, посредством которого лжец вводит в заблуждение другого человека, преследуя свои корыстные цели. «Во-первых, понятие «ложный» в русском языке может иметь пять значений, во-вторых, каждое значение ложного может быть представлено в контексте в плане выражения модального отношения: а) к сообщаемому; б) сообщаемого к действительности; в) семантика значения ложного может быть объектом оценочной модальности, которая выступает социально обусловленным продуктом надстроечного порядка. Наконец, г) понятие должного может рассматриваться как один из составляющих элементов фактического общения» (184, 460–461). Ложь всегда находится в поле суждений и отношений. Элементы ложной информации, во всяком случае некоторые из них, могут быть и правдивыми, но в сочетании с другими и на фоне события или личности они выступают как ложные. При определении Лжи нужно принимать во внимание не только самого лжеца, но и жертву Лжи.
Существуют две формы Лжи: умолчание и искажение. Нередко умолчание не считается Ложью, хотя по природе своей информация, в которой изъят важный фрагмент, есть ложная. Наиболее часто встречается Ложь в форме искажения. Особенно это касается сфер истории и политики. Ярчайшим примером искажений можно считать время до 1941 года в истории Советского Союза. Со времени прихода Гитлера к власти отношения между СССР и Германией до 23 августа 1939 года были напряженными. Советская пресса, кино, театр использовались для создания негативного образа фашизма. Активно применялись все разновидности советского публицистического дискурса: официолект (официальный публицистический дискус – передовые статьи в газетах, выступления официальных лиц и т. д.), публиолект (статьи популярных мастеров слова М. Кольцова, И. Эренбурга, А. Толстого и т. д.). Газетные и журнальные статьи, фильмы, плакаты, карикатуры того времени рисовали фашистов как зверей – кровожадных и ненасытных, противостоять которым может только советский народ. Общество с пониманием и одобрением относилось к этой информационной политике.
Однако 23 августа 1939 года между СССР и Германией был подписан договор. С этого момента в советской официальной пропаганде начинается новый этап: а) отказ от враждебного образа Германии; б) поджигатели мировой войны – это Англия и Франция, а не Германия; в) различия в мировоззрениях – не помеха для развития дружбы между германским и советским народом.
В ряде речей В. М. Молотова прозвучали разъяснения, что в слова «агрессор» и «агрессия» не нужно вкладывать тот смысл, который им придавали несколько месяцев назад, т. е. до подписания договора, т. к. Германия является миролюбивым государством. А вот Англия и Франция – это агрессивные государства, поскольку они объявили войну с гитлеризмом. Советская пропаганда переориентировалась и вместо антигитлеровской пропаганды повела прогитлеровскую, что плохо воспринималось обществом. События внешней политики преподносились на базе германских сообщений.
В Московской библиотеке иностранной литературы были изъяты газеты антифашистского содержания, зато на выдаче появились нацистские издания. Слово «фашист» исчезло со страниц советских газет, оно было заменено на «член национал-социалистской рабочей партии Германии». Следует отметить, использовалось слово «социалистский», а не «социалистический», хотя правильное написание было такое – «национал-социалистическая партия». В официолекте было специально введено такое различие, чтобы не сближать по содержанию и звучанию названия партий. В СССР в это время строили социализм, и в стране даже стройки были социалистическими.
Многие советские граждане недоумевали, видя германофильскую политику правительства. Всем было ясно, что «дружба» с Германией недолговечна. Но пропагандистский аппарат, получив направление, четко отрабатывал инструкции. В январе 1941 г. специальная комиссия Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) после анализа публикаций в журнале «Интернациональная литература» вынесла заключение, что главным недостатком в работе журнала является сохранение антифашистского духа в ряде публикаций.
В конце мая 1941 г., когда уже было ясно, что война не за горами, машина политической пропаганды стала разворачиваться в другую сторону. Советское общество два года до войны прожило в двух идеологических измерениях: с одной стороны, большинство осознавало, что фашистская Германия является врагом и война неизбежна, с другой – говорить об этом вслух было запрещено и даже смертельно опасно (к примеру, «бывший временный поверенный в делах во Франции Иванов был признан слишком антифашистом» и брошен в тюрьму) (47, 17).
Тотальная Ложь приводит к тому, что не только в официолекте проявляется Ложь. Даже те, кто обязан сообщать правдивую информацию, боятся ее говорить и подстраиваются под официолект. «Никто не решался доложить Сталину подлинные, неприкрашенные факты. Вся информация, рассказывал позже Хрущев, «передавалась с робкими оговорками. Даже сообщая точные сведения о действиях немцев, руководители разведывательных служб страховались: они искажали смысл этой информации. Толкуя ее в духе указаний сверху» (47, 17).
Автократический режим «порождает массу профессиональных языковых личностей (прежде всего журналистов) с этосно-мотивационными характеристиками низкого уровня, так что даже при искреннем желании власти предержащие не могут получить правдивой информации о действительности. Происходит своего рода рекурсия лжи, когда система начинает саморазвиваться по собственным внутренним законам, выходя из-под контроля своих творцов и охранителей» (66, 32).
Ложная информация обладает качеством протяженности во времени, которое приобретает концептуальный характер, подкрепленный идеологическими характеристиками. Возьмем в качестве примера концепт «Освобождение украинского и белорусского народов» в 1939 г.
Официолект и публиолект сформировали устойчивую историческую парадигму, что в 1939 г. Красная армия совершила освободительный поход против панской Польши и помогла воссоединиться восточным и западным областям Украины и Белоруссии. Официальная история тиражирует эту информацию, умалчивая, а нередко и искажая действительность. Специальные исследования резко отличаются от официальных.
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. 17 сентября 1939 г. СССР начал освободительный поход. 2 октября 1939 г. советские и фашистские войска вместе штурмовали г. Люблин (а это далеко не западные области Украины и Белоруссии). Вместе с Гитлером, «лучшим другом советского народа», как его именовали в прессе того времени, Сталин разделил Польшу, с которой раньше был заключен договор о ненападении. Все события 1939 г. преподносились не как агрессия, а как освобождение. Замена существительных меняет оценки события. Примерно то же самое было во времена «конкисты», т. е. завоевания испанцами индейских государств в Латинской Америке. После того, как в Европе громко зазвучали голоса протеста против жестокостей, творимых испанцами над индейцами, после публикаций испанского епископа Бартоломе де Лас Касаса в защиту индейцев, которые могли быть добрыми христианами, после этого официальный термин «конкиста», объясняющий политику Испании в Америке, был заменен на термин «пацификация», т. е. «замирение». Цензорам было поручено следить, чтобы в публикациях не проходило слово «конкиста».
Искажения исторических событий (а проще историческая ложь – ложь политической выгоды, ставшая идеологическим стереотипом) являются самыми устойчивыми не в силу лености исследователей, а в силу исторических устремлений, интенции «не потерять историческое лицо». Событие, однажды преподнесенное как героическое, должно с позиций идеологических оставаться таким навсегда для широкого употребления.
Продолжим наш пример. В современном (1997) учебнике «История России» (авторы А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина) об этих событиях сказано следующее: «1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. <...> В новых международных условиях руководство СССР приступило к реализации советско-германских договоренностей августа 1939 г. 17 сентября, после разгрома немцами польской армии и падения польского правительства, Красная армия вступила в Западную Украину и Белоруссию» (118, 413). Авторы умолчали о совместных действиях советско-германских войск в районе Люблина, совместном параде войск в Бресте, который принимали генералы Гудериан и Кривошеин. Умолчали, поскольку эта информация ломает концепт «освобождение братских народов». Языковые средства тоже активно используются: немцы «разгромили», Красная армия «вступила».
В советской официальной исторической науке исследователи до сих пор придерживаются мысли, что англо-французская дипломатия толкнула СССР на заключение договора с Германией. Однако еще до августа 1939 г. 8 июля 1939 г. в газете «Daily Telegraph and Morning Post» появилась большая статья Черчилля, в которой он требовал немедленного создания тройственного пакта с участием СССР против гитлеровской Германии. «Дела наши зашли так далеко, – писал Черчилль, – что трудно себе даже представить, чтобы какое-либо из трех правительств взяло на себя ответственность за лишение сотен миллионов трудящихся этой совместной гарантии их жизни и прогресса» (123, 681–682).
Приняв участие в германском нападении на Польшу под лозунгом «Освобождение братских народов», СССР вступил в войну союзником фашистской Германии, пленив 230 тысяч польских солдат, из которых 40 тысяч передал Германии. Как пишет В. Блинков в статье «Неизвестная война», «По случаю «совместной с Гитлером» победы над Польшей Молотов исполнил циничный канкан – достаточно, мол, было немецкого «блицкрига», а затем «советского удара», чтобы от «ублюдка Версальского договора» (т. е. польского государства) не осталось ничего» (48, 15).
Официолект при Сталине так определял действия советской дипломатии: «Верная принципам Ленина и Сталина, не отступая ни на шаг от ленинской концепции существования двух миров – социалистического и капиталистического, – неуклонно проводя политику мира и делового сотрудничества со всеми народами, независимо от различий их государственного строя, одушевленная избавить человечество от ужасов войны путем организации единого фронта свободолюбивых народов против поджигателей мировой бойни, советская дипломатия неизменно, твердо и смело за все время своего существования отстаивала свои принципиальные позиции в интересах всего передового человечества» (123, 700). В этом тексте ярко проявляются маркеры категоричности, которые свидетельствуют о наличии утечки информации. По мнению Пола Экмана, «информация о наличии обмана дает ответ только на вопрос, лжет человек или нет, но не открывает истины. Истина может быть открыта лишь благодаря утечке информации» (300, 31). Категорические утверждения из приведенного выше текста о принципах советской дипломатии: «не отступая ни на шаг», «неуклонно проводя политику мира», «независимо от различий их государственного строя» (вспомним договор 23 августа 1939 г.), «одушевленная стремлением», «неизменно, твердо и смело» – свидетельствуют о желании скрыть многочисленные промахи, а следовательно, преподнести ложную информацию. Утечка информации вызывает сомнения в правдивости текста и побуждает искать альтернативные источники, чтобы свести концы с концами. О роли и значении советской дипломатии рассказывает В. М. Молотов, когда ему уже не нужно было что-то активно скрывать – «Кто был сильным дипломатом? Сильным? У нас централизованная дипломатия. Послы никакой самостоятельности не имели <...> Кроме Чичерина и Литвинова, которые наверху были, роль наших дипломатов, послов была ограничена сознательно, потому что опытных дипломатов у нас не было <...> Наши послы не всегда хорошо знали иностранный язык» (290, 98–99).
Ложь является противоположностью правды и одновременно необходимым инструментом деятельности некоторых общественных институтов, в частности дипломатии, которая без Лжи не обходится, используя все ее типы. При этом такая Ложь называется достаточно элегантно: приемы и методы, организационные формы и техника дипломатии.
Приведем несколько дипломатических приемов, в основе которых заключается Ложь.
1. Агрессия, прикрываемая мотивами обороны. Классическим образчиком предумышленной Лжи с целью оправдать нарушение своих обязательств и измену данному слову якобы вынужденной самозащитой были заверения германской дипломатии по поводу вторжения в Бельгию в августе 1914 г. Захват Бельгии обосновал профессор Лабанд в книге «Управление Бельгией во время военной оккупации» (в систему приемов входит привлечение авторитетов науки), он писал: «На войне вообще не должно быть непреложных законов и нерушимых обязательств...» (123, 705). Нападение на СССР было еще в 1936 г. мотивировано доктором юридических наук Э.-Г. Бокгоффом, который в своей книге «Является ли Советский Союз субъектом международного права?» писал: «...всякая война против Советского Союза, кто бы и почему ее ни вел, вполне законна, поскольку СССР не есть государство, а сборище кочевников, задающихся революционно-разрушительными целями, поэтому в порядке самозащиты можно вторгаться на территорию СССР» (123, 706).
2. Агрессия, прикрываемая «бескорыстными» идейными мотивами. О необходимости «крестового похода» против французского революционного чудища громче всех кричала Екатерина II, но ни одного русского солдата воевать с французами не послала. Ей нужно было втравить в войну с Францией своих соперников по части дележа польских территорий – прусского короля и австрийского императора. Эта Ложь «бескорыстного» идейного мотива ей удалась блестяще.
Еще один пример агрессии, прикрываемой «бескорыстными» мотивами, – захват Польши в 1939 г.
17 сентября 1939 г. Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Москве Гжибовский получил ноту Советского правительства.
NOTA RZĄDU ZSRR PRZESŁANA DO AMBASADY POLSKIEJ W MOSKWIE rano 17 września 1939 r.
17 września 1939 roku
Panie Ambasadorze,
Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje rejony przemysłowe i centra kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd polski się rozpadł i nie przejawia oznak życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Przez to samo zawarte pomiędzy ZSRR i Polską umowy utraciły moc prawną. Pozostawiona sama sobie i pozbawiona kierownictwa Polska stała się wygodnym polem dla wszystkich możliwości i niespodzianek, mogących stanowić zagrożenie dla ZSRR. Dlatego też rząd sowiecki, który dotąd pozostawał neutralnym, nie może nadal neutralnie ustosunkowywać się do tych faktów.
Rząd sowiecki nie może również obojętnie ustosunkowywać się do tego, aby tej samej krwi Ukraińcy i Białorusini, zamieszkujący na terytorium Polski i porzuceni na wolę losu, pozostawali bez obrony.
W obliczu takiej sytuacji rząd sowiecki wydał zarządzenie Naczelnemu Dowództwu Czerwonej Armii wydania rozkazu przekroczenia granicy i wzięcia pod ochronę życia i mienia mieszkańców Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi.
Jednocześnie rząd sowiecki zamierza przedsięwziąć wszystkie kroki po temu, aby wyzwolić naród polski od nieszczęsnej wojny, w którą został wtrącony przez swoich nierozumnych przywódców, i dać mu możność zacząć żyć w pokojowych warunkach.
Proszę przyjąć, Panie Ambasadorze, wyrazy zupełnego dla Pana szacunku.
Komisarz ludowy spraw zagranicznych W. Mołotow
Do Nadzwyczajnego i
Pełnomocnego Ambasadora
Polski p. Grzybowskiego,
Ambasada Polska, Moskwa.
Нота правительства СССР в Посольство Польши в Москве
17 сентября 1939 г.
Господин Посол
Война польско-немецкая выявила внутреннее банкротство польского государства. В течение десятидневной военной операции Польша утратила все свои промышленные и культурные центры. Варшава перестала существовать как столица Польши. Правительство Польши распалось и не подает признаков жизни. Это означает, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу этого все договоры между Польшей и СССР утратили правовую силу. С утратой руководства Польша стала удобным полем для беспорядка, могущего угрожать СССР. Поэтому правительство СССР, которое до этого оставалось нейтральным, не может теперь нейтрально относиться к этим фактам.
Советское правительство не может спокойно относиться к тому, чтобы украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, были брошены на произвол судьбы и остались без охраны.
Принимая во внимание такую ситуацию, советское правительство отдало приказ Главному командованию Красной Армии о пересечении границы и взятии под охрану жизни и имущества жителей Западной Украины и Западной Белоруссии.
Одновременно Советское правительство примет необходимые меры (к тому, чтобы избавить польский народ от несчастий войны, в которую он был втянут своими неразумными руководителями, и дать ему возможность жить в мирных условиях.
С выражением полного уважения Народный комиссар иностранных дел
В. Молотов
Агрессия была завуалирована в тексте. Обращает внимание своей «заботой» предпоследний абзац: «Одновременно Советское правительство намерено предпринять любые шаги к тому, чтобы избавить польский народ от несчастий войны, в которую он был втянут из-за своих неразумных руководителей, и дать ему возможность жить в мирных условиях» (226, 184).Обоснованием вторжения были следующие маркеры:
«Wojna polsko-niemiecka ujawiła wewnętrzne bankrutstwo panstwa (война польско-немецкая выявила внутреннее банкротство государства), panstwo polskie i jego rzad faktycznie przestały istnięc (польское государство и его правительство фактически перестали существовать), pomiędzy ZSRR i Polska, umowy utraciły moc prawną (между СССР и Польшей договоры утратили правовую силу), Polska stała się wygodnym polem dła wszystkich możliwości i niespodzianek, mogących Stanowic zagrożnie dła ZSRR (Польша стала удобным полем для всяких возможностей и неожиданностей, создавая угрозу для СССР), <...> i wzięcia pod ochrone, zycia i mienia mieszkańcow Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi (и берет под охрану жизнь и имущество жителей Западной Украины и Западной Белоруссии). Представляет интерес листовка для польских солдат от 17 сентября 1939 г. за подписью командующего Белорусским фронтом командарма 2-го ранга Михаила Ковалева.Żołnierze Armii Polskiej!
Pansko-burżuazyjny Rząd Polski, wciągnąwszy Was w awanturystyczną wojnę pozornie przewaliło się. Ono okazało się bezsilnym rządzić krajem i zorganizować obronu. Ministrzy i gienierałowie, schwycili nagrabione Imi złoto, trzchórzliwie uciekli, pozostawiając armię i cały lud Polski na wolę losu. Armia Polska pocierpiała surowa porażkę, od którego ona nie oprawić wstanie się. Wam, waszym żonom, dzieciom, braciom i siostrom ugraża głodna śmierć i zniszczenie. W te ciężkie dni dla Was potężny Zwięzek Radziecki wyciąga Wam ręce braterskiej pomocy. Nie przeciwcie się Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej. Wasze przeciwienie bez kożyści i przerzeczono na całą zgubę. My idziemy do Was nie jako zdobywcy, a jako wasi bracia po klasu, jako wasi wyzwoleńcy od ucisku obszarników i kapitalistów. Wielka i niezwolczona Armia Czerwona niesie na swoich sztandarach pracującym, braterstwo i szczęśliwe życie. Żołnierze Armii Polskiej! Nie proliwacie daremnie krwi za cudze Wam interesy obszarników i kapitalistów. Was przymuszają uciskać białorusinów, ukraińców. Rządzące koło polskie sieją narodową rużność między polakami, białorusinami i Ukraińcami. Pamiętajcie! Nie może być swobodny naród, uciskające drugie narody. Pracujące białorusiny i ukraińcy – Wasi pracujące, a nie wrogi. Razem z nimi budujcie szczęśliwe dorobkowe życie. Rzucajcie broń! Przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Wam zabezpieczona swoboda i szczęśliwe życie.Naczelny Dowódca
Białoruskiego frontu
Komandarm Drugiej
Rangi Michał Kowalow 17 września 1939 roku
(226, 127)
Солдаты армии польской!
Польско-буржуазное правительство Польши, втянувшее вас в авантюру войны, позорно сбежало. Оно оказалось бессильным организовать оборону страны. Министры и генералы, прихватив награбленное ими золото, трусливо сбежали, бросив армию и целый народ на произвол судьбы. Армия Польши потерпела суровое поражение. Советский Союз протягивает руку братской помощи. Не сопротивляйтесь Рабоче-крестьянской Красной Армии. Ваше сопротивление бесполезно. Мы идем к вам не как захватчики, а как братья по классу, как ваши освободители от угнетения помещиков и капиталистов. Солдаты армии польской! Не проливайте зря кровь за чуждые вам интересы грабителей и капиталистов. Вас заставляли угнетать белорусов, украинцев. Правительственные круги сеяли национальную рознь между поляками, белорусами и украинцами. Помните! Не может быть свободным народ, притесняющий другие народы. Трудящиеся белорусы и украинцы не враги вам. Вместе с ними стройте счастливую жизнь. Бросайте оружие! Переходите на сторону Красной Армии. Вам гарантирована свобода и счастливая жизнь.Командующий Белорусским фронтом командарм второго ранга Михаил Ковалев 17 сентября 1939 г.
После присоединения западных территорий об охране жизни и имущества жителей речи уже не было. Сотни тысяч поляков были высланы, свыше 20 тысяч польских солдат и офицеров были расстреляны в лагерях Катыни, Козельска, Осташкова, Старобельска. Долгое время об этих событиях умалчивалось, т. е. использовалась форма Лжи – умолчание (сокрытие правды).
3. Использование пацифистской пропаганды в целях дезориентирования противника.
4. Заключение «дружественных» соглашений с целью усыпить бдительность противника.
Примеров такой дипломатической Лжи в истории предостаточно. Приведем наиболее яркий. В октябре 1933 г. Гитлер заявил о выходе из Лиги наций. «По поводу этого акта он издал воззвание «К германскому народу», в котором торжественно вещал: «Германское имперское правительство и германский народ едины в своем желании проводить политику мира, примирения и соглашения...» (123, 713).
Особое значение Гитлер придавал Лжи. В своей книге «Mein Kampf» (Моя борьба) он требовал лжи и от своей дипломатии: «В больших размерах лжи всегда заключается известный фактор, возбуждающий доверие... Широкая масса народа в глубочайшей основе своего сердца... при примитивной простоте своего духа легче становится жертвой большой лжи, чем лжи маленькой. Ведь сама эта масса иногда, конечно, лжет в малом, но она слишком бы устыдилась большой лжи» (123, 713).
5. Пропаганда «локализации конфликтов» с прикрытой целью облегчить агрессору последовательный разгром намеченных жертв.
6. Дипломатическое использование агрессором внутренних раздоров в стане противника.
7. Прием систематических угроз и терроризирование противника.
8. «Защита» слабых государств как предлог для агрессии.
Ложь – это информация и действие. «Существуют две основные формы лжи: умолчание (сокрытие правды) и искажение (сообщение ложной информации). Есть еще разновидности лжи, такие как: сокрытие истинной причины эмоции; сообщение правды в виде обмана; полуправда и сбивающая с толку увертка» (300, 32).
В тексте или речи Ложь нередко проявляется в осторожном подборе слов или чрезмерной патетике. Тщательность в подборе слов не всегда свидетельствует о Лжи, но сигнализирует, что информатор ищет приемлемые ориентиры и не определился в позициях.
Ложь является социально дозволенной. Без нее общество, пусть это не покажется странным, существовать не может. Дипломатия – яркий тому пример. Социальные нормы узаконивают такую форму Лжи как умолчание. Ложь (умолчание) врачей о состоянии безнадежно больного узаконена. Такая же Ложь разрешена священникам, адвокатам.
Что касается последних, т. е. адвокатов, то о них сложилось мнение, что один из двух адвокатов в судебном процессе лжет, искажает действительность. Однако, по мнению В. Знакова, «...правдивые, неискаженные сообщения об одних и тех же истинных фактах люди могут понимать по-разному – как правду инструментальную, нравственную или рефлексивную» (110, 127). В подтверждение этой мысли целесообразно привести весьма интересный пример: «По делу об установлении юридического факта признания отцовства заявитель ссылался на то, что умерший гр. В. признавал его своим сыном, водил его в школу, бывал на родительских собраниях, ездил с ним отдыхать и т. д. Указанные обстоятельства были подтверждены в судебном заседании многочисленными свидетельскими показаниями. С целью опровержения доводов заявителя последнему были заданы следующие вопросы: 1) «Имеются ли у Вас фотографии, где Вы были бы сфотографированы вместе с гр. В.?» Ответ «нет» (суду предъявляются фотографии, где гр. В. сфотографирован с другими детьми); 2) «Имеются ли у Вас письма гр. В., адресованные Вам?» Ответ «нет» (предъявляются письма, адресованные другим родственникам). По окончании опроса суду предъявляются анкеты, заполненные гр. В. собственноручно, в которых он указывает, что детей у него нет. В установлении факта признания отцовства было отказано на основании представленных «нетехнических» доказательств.
Приведенные примеры достаточно убедительно свидетельствуют о том, что в современном гражданском судопроизводстве практически нет места ораторскому искусству, главное же состоит в умении найти и привести необходимые «нетехнические» доказательства, т. е. официальная письменная речь имеет доминирующее значение по сравнению с устной» (306, 76–77). Этот пример интересен тем, что здесь столкнулись две правды – инструментальная и рефлексивная, из которых одна, а именно рефлексивная, была решением суда признана «ложной», поскольку Правда инструментальная в основе своей является документальной. И «нетехнические» доказательства получили статус Правды.
Противопоставление Правды и Лжи в обыденном сознании, как правило, категорично, «человек воспринимает как правду не все факты, которые становятся ему известны, а только понятные ему» (110, 151). В Тимашевском районном суде слушалось дело по иску К. о защите чести и достоинства. Предметом исковых претензий послужили фрагменты из статьи «Предвыборные фантазии некоторых претендентов вводят в заблуждение избирателей», опубликованной в газете «Антиспрут»: «Советским районным судом г. Краснодара он был признан виновным», «И дело было закрыто по примирению. Заметьте: не по реабилитирующим обстоятельствам и не из-за отсутствия состава преступления».
Истец ввел в текст искового заявления пафосные коды «ярко выраженный политический характер и преследуют известные цели», «клеветнически обвиняет меня в совершении преступления», «клеветническое оскорбление». Эмотивная функция языка эксплуатируется здесь нещадно. Высокая степень эмоций свидетельствует об интенции скрыть суть дела, выставить напоказ моральные страдания, продемонстрировать агрессивный характер интенций языковой личности – автора заявления.
В ходе судебного заседания было выяснено, что К. был ранее осужден по п. 1 ст. 129 УК РФ (клевета), приговор суда вступил в силу, позднее К. добился отмены приговора и передачи дела на новое рассмотрение. При новом рассмотрении уголовного дела стороны примирились, и дело было прекращено.
К. баллотировался на выборах на должность главы района и, естественно, распространение такой информации не добавляло ему симпатий избирателей. Суду он представил следующую схему. Поскольку первый приговор был отменен, а в дальнейшем дело закрыто (по примирению сторон, потерпевшая отказалась от своего заявления), то и события как такового – суда, приговора – в действительности не существовало. А раз нет события, то информация в газете ложная, а если ложная, то порочащая честь и достоинство истца. Суд потребовал от ответчика объяснений, почему в тексте не сказано об отмене приговора, почему умолчали об этом факте, хотя в тексте есть предложение, что К. «добивался пересмотра дела», и дальше из текста следует, что добился, поскольку было новое слушание.
Суд счел, что автор публикации должен был указать все обстоятельства дела, сослаться на документы и т. д. То есть требовал от автора выполнения норм инструментальной правды, не рассмотрев в тексте сочетания инструментальной и рефлексивной правд. И вынес решение: признать сведения, изложенные в публикации, порочащими честь и достоинство истца, т. е. несоответствующими действительности. Словом, суд исключил из действительности событие, которое было реальным, признал сообщение ложным. Феномены лживости и нечестности, правдивости и честности, неправды имеют многовековое существование. «С тех пор, как пало человечество, ложь водворилась в мире, в словах людских, в делах, в отношениях, в учреждениях. Но никогда еще, кажется, отец лжи не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время, когда столько слышится отовсюду лживых речей о правде. По мере того, как усложняются формы быта общественного, возникают новые лживые отношения и целые учреждения, насквозь пропитанные ложью. <...> нам велят верить, что голос журналов и газет – или так называемая пресса – есть выражение общественного мнения... Увы! Это великая ложь, и пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени» (215, 116).
Это довольно резкое мнение К. П. Победоносцева о печати отчасти справедливо, поскольку Правда и Ложь – это неразрывные составляющие прессы. Предвыборные кампании, борьба экономических и политических кланов, симпатии / антипатии главных редакторов друг к другу содержат в себе в неразрывном единстве Правду и Ложь.
«Неправда в средствах массовой информации и ситуациях межличностного общения обычно проявляется в одной из трех разновидностей. Во-первых, неправда может выступать как вербальный эквивалент заблуждения: человек верит в реальность существования чего-то, но ошибается – в результате он говорит неправду, сам того не осознавая. Во-вторых, неправду можно обнаружить в различных формах иносказания (аллегория, шутка, ирония и т. п.), то есть в словах и выражениях, которые обретают в определенном контексте смысл, противоположный их буквальному значению. В-третьих, в коммуникативных ситуациях она проявляется в уникальном явлении – вранье» (110, 245–246).
В. В. Знаков считает, что вранье принципиально отличается от лжи. В синонимах вранья подчеркивается «не столько гносеологический, познавательный аспект намеренного искажения истины, сколько онтологический, экзистенциальный, характеризующий конкретные ситуации межличностного общения» (110, 246). Классическое вранье или угадываемое в большинстве случаев имеет изначально квалификаторы, предупреждающие, что враль собрался врать, т. е. ситуация и роль адресанта в ней гиперболизируются. Вранье в основе имеет Ложь как противопоставление Истине, Правде. Синонимы вранья – свистеть, обдурить, вешать лапшу на уши, загибать, брехать, финтить – ориентируют на понимание, что событие не получает адекватного отражения, субстанциально оно лживо. Субъект (враль) распространяет информацию, которая не соответствует действительности, а объект, получив эту информацию, пользуется свободой выбора ее оценки, если только она не касается его самого. В последнем случае включаются иные механизмы реагирования. При угадываемом вранье используются следующие приемы: ложное противопоставление, ложное усиление, доведение до абсурда, смешение речевых стилей, перенос терминологии, метафоры, наведенная цепь ассоциаций, двойное истолкование, ирония, сравнение по случайному или второстепенному признаку и т. д. «Обычно слово «вранье» используется в тех случаях, когда нужно не оценить истинность высказываний человека, а понять, оправдать его» (110, 246).
И вранье, и Ложь имеют единую природу, которую можно определить термином «интерес». Это может быть практический интерес, т. е. выгода, интерес эстетический, т. е., по выражению Пола Экмана, это восторг надувательства или процесс самолюбования, самовозвеличивания, стремление стать объектом всеобщего внимания, включение функции компенсации: в этой ситуации субъект был героем, ведущим персонажем.
Достаточно часто встречается вранье, связанное с бескорыстным обманом или, по выражению В. Знакова, как «внешнее проявление защитных механизмов личности».
Приведем пример защитной реакции. На хуторе 3. Николая считали завзятым брехуном, но бескорыстным и незлобным. Как-то раз он, возвращаясь домой, встретил возле магазина мужиков, которые ждали, когда начнут продавать пиво. Один из мужиков обратился к нему: «Ну что, Мыкола, как жизнь? Сбреши чего-нибудь». Николай ответил: «Некогда мне брехнями заниматься. Бегу домой за мешком. В стройчасти сейчас будут поросят продавать». Мужики – народ хозяйственный. Призадумались. В альтернативе «пиво – поросята» победили последние. И все разошлись по домам – за мешками и деньгами. Каково было их удивление, когда, собравшись в стройчасти, они узнали, что никаких поросят здесь никто не собирался продавать. Их претензии о вранье Николай на следующий день отмел быстро: «Так вы же сами просили, чтобы я сбрехал».
Этот пример подтверждается классиком русской литературы Ф. М. Достоевским, обратившим свое внимание на вранье как русский социальный и психологический феномен. В статье «Нечто о вранье» он писал: «С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть не лгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. <...> у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю» (98, 85).
О природе вранья, Лжи оригинально высказывался Ф. Гиренок: «Русскому человеку легко солгать. Почему? Потому что мы ориентированы не на слово, а на дословность. Слово издалека. Оно из внешней образованности, в которой уже коренится ложь. Ну а нам соврать сам Бог велел.
Словами задается поле чести. Тела дословности образуют коридор совести. Важно, чтобы совесть была чиста. А что там с честью – это дело второе. Киреевскому это неприятно. Он удивляется: как это так? Только что русский мужик готов был жизнь отдать за убеждения, за святость правды и здесь же лжет за копейку барыша. Лжет из боязни. Лжет из выгоды. Лжет без выгоды. Лжет за стакан вина. <...> Русский человек не дорожит внешним словом, то есть словом для другого. Ложь – это его форма симуляции. Ответ на вторжение чего-то чужеродного.
У нас Бог один. Ум – один. Истина – одна. А слов много. Говорить – это уже обманывать» (86, 108–109).
В отличие от В. Знакова мы придерживаемся точки зрения, что вранье имеет две функции: информационную и коммуникативную. Как оригинально высказался Ф. Гиренок, «категории, как утки, ходят парами» (86, 233). Информация и коммуникация – это категориальная пара в системе межлюдских отношений, которые имеют общую субстанцию. Информация, информировать (от лат. Informare – изображать, составлять понятие о чем-либо) – осведомлять. Коммуникация (от лат. comraunicatio) – сообщение, связь (236, 314).
Вранье, Ложь, обладая этими двумя функциями, имплицитно содержат в себе конфликт, который может возникать и развиваться вне зависимости от начальной информационной базы.
Приведем классический пример из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
«Прощайте, братцы! – кричал в ответ кузнец. – Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте и не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтоб совершил панихиду по моей грешной душе. <...>
– Он повредился! – говорили парубки.
– Пропащая душа! – набожно пробормотала проходившая мимо старуха. – Пойти рассказать, как кузнец повесился!» (92, 22). В целом информация, т. е. речь Вакулы, не дает оснований делать заключение о его сумасшествии или акте повешения, хотя отдельные тревожные информационные знаки подталкивают к размышлению, а именно – «увидимся на том свете», «совершить панихиду» (панихиду служат в церкви только по умершим). Если парубковое «он повредился», т. е. сошел с ума, можно рассматривать как эквивалент бытового выражения – ну и чушь ты несешь, что у тебя с головой и т. д. – то старухино «повесился» свидетельствует о категорическом выводе.
В дальнейшем информация порождает конфликт сторон, отстаивающих свою достоверность, что в итоге искажает само событие. Продолжим цитирование повести «Ночь перед Рождеством»:
«– Утонул! Ей Богу, утонул! вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул! – лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посреди улицы.
– Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову украла? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? <...> Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!
<...> Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! – отвечала ткачиха, – нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! <...> Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.
– Срамница! вишь, чем стала попрекать! <...> Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер!
<...> Дьяк? – пропела, теснясь к спорящим, дьячиха <...> Так это ты, сука, – сказала дьячиха, подступая к ткачихе, – так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтоб ходил к тебе?» (92, 39–40).
Многие информационные конфликты в СМИ являются калькой этого концептуального спора диканьских баб. Прозрачная референция «прощайте, братцы! увидимся на том свете» получила иную смысловую нагрузку – «повредился, повесился». «Выяснение истины, как часто любят говорить журналисты, повлекло за собою использование аргументации из другого референциального поля – «разве я у кого-нибудь корову украла? разве я сглазила кого?» – ссылка на авторитетный источник – «старая Переперчиха видела собственными глазами», – применение обличительной аргументации – «скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить», – слив компромата – «к тебе дьяк ходит каждый вечер!».
«Психологическая структура лжи, противоположная психологической структуре правды (а «категории, как утки, ходят парами»), основана на сочетании трех факторов: утверждение говорящего не соответствует фактам, он не верит в истинность произносимого и собирается обмануть партнера» (110, 246–247). Иными словами, в структуре содержатся информационно-коммуникативные и содержательные аспекты. В журналистике довольно редко случается, что проходит сообщение о событии, которого не было в действительности, как правило, СМИ стараются себя обезопасить в этом случае рубрикой и маркерами «по слухам», «из надежного источника, который просил себя не раскрывать».
В большинстве случаев Ложь в СМИ имеет гносеологический характер, который можно определить как «ложная точка обзора», «ложная точка восприятия», хотя последнее генерируется идеологией СМИ. Ложь в журналистике – это условие отражения, если нет полного и безусловного искажения картины событий. «Для того, чтобы совместно существовать, людям нужно допустить в свой круг некоторую порцию лжи, строго соблюдаемой условности. Свободный человек принимает ложь как необходимость соблюдения приличий» (86, 329).
В СМИ присутствует содержательная Ложь. Приведем весьма распространенный прием, которым пользуются тележурналисты. На месте аварии они, как правило, выбирают «жесткий» ракурс съемки, подкладывают детские игрушки или другие предметы, вид которых вызывает интенсивный ассоциативный ряд, всплеск эмоций. Событие не искажено, но фрагменты события скомбинированы, не соответствуют действительности, следовательно, ложны, но в пределах допустимости. Т. е. допустимость такой лжи не предосудительна, и общество, если знает о применении данного приема, не протестует против такой Лжи.
Ложь и вранье связаны с обманом. Ложь ради самой Лжи – достаточно редкое явление. В итоге всегда обман. В СМИ это обман читателей/зрителей. В Законе заложена ответственность не столько за Ложь, сколько за обман. Здесь имеется в виду ст. 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации, а не уголовная ответственность за обман как мошенничество. «Ложная точка обзора» события вводит в заблуждение читателя/зрителя. Но как определить, что она ложная? И почему она ложная, если журналист занимает именно такую «точку», позицию? И за что он несет ответственность: за позицию, за содержательную сторону своей публикации или за искажения, которые сторона в суде выдвинула в качестве аргументов? В судебной практике на этот вопрос пока нет точного ответа.
По мнению западных исследователей, Ложь нарушает права обманутого человека. Поскольку у СМИ есть право на сбор и распространение информации, постольку у гражданина есть право на получение достоверной, правдивой информации. Искажение события есть нарушение прав, ограничение возможностей вынести верное суждение о событии, предмете обсуждения. Ложь нарушает права того, кому лгут.
По мнению русских философов, психологов, писателей, Ложь в русской культурной традиции рассматривается как морально предосудительное деяние, как клевета и даже оскорбление (вспомним истца К. с его претензиями о «клеветническом оскорблении»). Солгавший совершает преступление против нравственности, отступает от своей божественной и человеческой сути. И по русской традиции тот, кому лгут, не является активным (правовым), страдающим субъектом коммуникации.
Концепты Правда и Ложь составляют суть человеческих отношений, и общество хотя и порицает Ложь, тем не менее активно ее использует. Абсолютная Ложь и абсолютная Правда – это идеальные образцы поведения. Ложь есть отражение события под углом зрения, отягощенного корыстным интересом.
Между Правдой и Ложью в ментальности русского человека: пословицах, поговорках, былинах, сказках и т. д. – проведена граница, что правда – хорошо, а ложь – плохо. Но что хорошо в педагогике, в жизни проходит сквозь сито ментального лицемерия. И Ложь получает право на жительство. Голый правдивый факт генерирует аксиологическую ложь. Интерпретация факта, как правило, отягощена оценочными коннотациями, что делает изначальный текст о событии референциально непрозрачным, ложным. Языковая личность, отражая событие, находится в пограничной области между Правдой и Ложью. Языковая личность репрезентирует черты текстов своего круга общения, идеологию своего издания, эксплуатирует концепты своей системы.
Системы анализа текстов (языковые, психологические, логические) не дают точной оценки, ложен или правдив текст, поскольку не учитывают дискурс.
Информационное (событийное) поле, на котором работают журналисты, необычайно широко. Отбирая те или иные события, умалчивая о других, журналист совершает операцию лжи, поскольку читатели/зрители не получают полное, следовательно, правдивое отражение всего информационного поля за определенный отрезок времени.
Информационные единицы (факты) правдивы относительно одного текста и ложны относительно другого. Правда относительна и зависит от интерпретации.
Концепт Факт: субъектно-объектные отношения
Концепт Факт не менее сложное понятие, чем Истина. В словаре Брокгауза и Ефрона Факт определяется следующим образом: Факт (от. лат. facere – делать, нем. Thatsache – сделанное) – термин, имеющий обширное и не всегда определенное значение. В противоположность общему, идее Факт есть всегда единичное <...> есть то основание, на котором строится теория, то, что требует объяснения, даваемого наукой. Он должен быть твердо установлен и в таком случае является инстанцией, которую замолчать или обойти нельзя. Достаточно одного факта, противоречащего теории, для того, чтобы признать ее ложной. <...> Когда новый факт называют открытием, то открытие составляет не Факт сам по себе, но новая идея, из него вытекающая; точно так же, если факт что-либо доказывает, то не факт сам по себе служит доказательством, а лишь разумное отношение, которое он устанавливает между явлением и его причиной. Эта связь или отношения и составляют научную истину. Все это справедливо, если смотреть на Факт как на нечто случайное; но Факт есть выражение общего закона, и без точного описания и установки Факта самый закон найден быть не может; поэтому всякий факт имеет безусловное значение как точка отправления для теории. <...> под Фактом обыкновенно разумеют не только объективно данное, т. е. предмет, но и субъективно данное в сознании, т. е. явление. Мы говорим о фактах сознания наряду с фактами физического мира; давно прошедшие события мы называем фактами истории, и даже мифологические представления или измышления спиритов готовы называть фактами интеллектуальной или нравственной жизни, хотя бы и патологической. Из этого явствует, что под понятие Факт подводится весьма разнообразное содержание, имеющее лишь два общих признака: Факт обозначает всегда нечто единичное и с представлением о факте связана всегда уверенность в действительном, реальном существовании содержания известного представления <...> фактом противополагаются мифы и легенды (49, 244–245).
Для сравнения предложим другую формулировку Факта, а именно – юридического. «Юридические факты (англ. Juridical facts) – предусмотренные в законе обстоятельства, которые являются основанием для возникновения (изменения, прекращения) конкретных правоотношений. Юридические факты делятся на две группы: события и действия. События – юридически значимые факты, возникающие независимо от воли людей. Действия – жизненные факты, которые являются волеизъявлениями (т. е. результатом сознательной деятельности) людей. Они в свою очередь делятся на правомерные (соответствующие предписаниям правовых норм) и неправомерные (противоречащие закону, являющиеся правонарушениями) действия» (262, 503).
Теперь обратимся к В. Далю: «Факт – происшествие, случай, событие, дело, быль, быть; данное, на коем можно основать противоположное – вымысел, ложь, сказка» (96, 531).
В Этимологическом словаре русского языка Макса Фасмера говорится о том, что слово «Факт» появилось в русском языке при Петре I, через польское fakt из латинского faktum – сделанное (273, 182).
В польском языке слово «факт» означает дело: fakt dokonalny – свершившийся факт; nagi(goly) – голый факт; przez sam fact – только на основе факта (252, 121).
Итак, авторитетные источники дают нам основания утверждать, что Факт есть: а) действительное невымышленное событие (происшествие), явление; б) твердо установленное основание, на котором строится теория (в журналистике – текст, в праве – решение, приговор), обозначает всегда нечто единичное; в) не факт сам по себе служит доказательством, а является лишь основанием разумного отношения, которое он устанавливает между явлением и его причиной.
Факт является сущностью, т. е. тем, что происходит в бытии и из бытия, факт есть сущность и существование. «Сущность состоит в том, что вещь является носителем имени. Быть сущностью значит иметь, нести имя» (146, 33).
Сам факт несет имя, но факт не есть единичное, переменное, он сложное явление, он событие, которое состоит из многочисленных, составляющих его номинаций – фактов, сущностей, объединенных в смысловое целое. «Сущность и существование, все общее и единичное соединяется в смысле слова» (146, 34), а смысл распадается на сущности, каждая из которых отягощена своим смыслом, находящимся в зависимости от интенций адресанта и адресата.
Статья в газете (журнале) является фактом публикации –распространения, т. е. содержит в себе сущность распространения. Статья представляет собой четко ограниченное информационно-событийное поле, содержащее смысл – Концепт с включенными в него факультативными смыслами. Событийная рамка заполнена фактами и смыслами.
Правильное восприятие текста, решение возможно при определении сущности – содержания, то есть важным является выявление содержания факта, его сути. Содержание факта проявляет себя через отношение вещей. «Сущность – содержание включает в себя все свои – сущностные – отношения, например между основанием и основанным. Отношение, определение, различение сущности, все это вместе взятое есть полнота содержания сущности, вся сущность» (146, 39).
В журналистике и юриспруденции существует формула – чистый, голый факт. «Понятие простого факта представляет собой триумф абстрагирующего интеллекта. <...> Отдельный изолированный факт – это изначальный миф всякого конечного мышления, т. е. мышления, не способного охватить всеобщность» (270, 344).
На помощь в творческом процессе понимания, осмысления факта (или фактов) приходит интеллектуальная свобода, проявляющаяся в отборе. Отбор же нуждается в понятии относительной значимости, чтобы придать смысл действию и созданной из фактов конструкции. К фактичности обязательно примешивается понятие принудительного детерминизма и интенции, а также интереса. При этом интерес модифицирует само конструируемое выражение. Характеристика факта (вещи) с точки зрения ее свойств образует еще такое ее качество, как виртуальность. Анализ фактуальной базы предполагает «решение вопроса о связи или порядке вещей (фактов. – Авт.) <...> установление зависимости между вещами, могущей иметь характер сочетания вещей, обладающих качествами гармоничности или тотальности. Такая реальность открывается посредством идеи, т.е. того, что видно, и есть то, что видится как целое, в котором реальность и явление совпадают. Это совпадение традиционно называется истиной» (146, 47).
Отбор частных фактов, переходящих в факт-идею, в факт-смысл, в факт-истину, определяется, детерминируется интересом, нередко, особенно в журналистике, зацикленностью на своем собственном видении содержания факта (вещи), что делает всякие иные смыслы, а вместе с этим и иные факты, бессмысленными.
Слово «интерес» родилось в древнеримской сугубо частной сфере и означало «быть между». Дополнительные значения определяли интерес как «разниться, отличаться», «существенно, важно». «Наиболее близкое современному значение проявляется в максиме Цицерона «Interest omnium recte facere» (следование нормам суть общего блага – дословно «важно всем правильно поступать»)» (120, 119).
В России слово «интерес» употребляется в речи еще с петровских времен, но смысл его колеблется между значениями «любопытство» и «выгода». Последнее наиболее точно подходит к принципам деятельности в СМИ. Интерес при отборе фактов, интерес при интерпретации фактов. Факт как единица-монада, событие или часть события отбирается с выгодой для конечного результата, на котором сконцентрировано внимание. Процесс концентрации внимания означает игнорирование всего того, что не относится к делу. Таким образом, в событии, т. е. Факте образуются лакуны, которые заполняются подтекстовой или затекстовой интерпретацией, что приводит к противоречиям в восприятии Факта.
Факт, по Расселу, и это наиболее предпочтительная формулировка, «может быть определен только наглядно. Все, что есть во Вселенной, я называю фактом. Солнце – это факт; переход Цезаря через Рубикон был фактом; если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт. Если я что-нибудь утверждаю, то акт моего утверждения есть факт, и если мое утверждение истинно, то имеется факт, в силу которого оно является истинным, однако этого факта нет, если оно ложно. Факт есть то, что делает утверждение истинным или ложным» (220, 177). Факт становится фактом после его верификации на истинность (здесь есть определенная тавтология, ибо верификация и есть проверка на истинность, но она в данном случае извинительна).
В журналистике процесс сбора и отбора фактов ограничен интересом (выгодой) или темой. Во многих случаях журналисты не являются свидетелями событий, а потому собирают свидетельства события из вторых рук, причем, не ориентируясь на максиму, что «понятие точного свидетельства имеет свои пределы» (270, 350).
Проиллюстрируем это положение примерами.
1. Произошло событие А, свидетелем которого был журналист. «Угол обзора» события уже детерминирован его идеологической, интеллектуальной, ментальной позицией или позицией его издания. Описание самого действия события, если оно изначально не несет в себе конфликта, будет соответствовать истине. При условии, что журналист настроен критически, конфликтно к событию, то он с помощью лексических средств или языковых возможностей придает событию иное звучание, ибо «высказывание всегда имеет края, населенные другими высказываниями <...> и психологический ореол формулировки управляется издали диспозициями после высказывания» (277, 98–99). При этом событие останется событием, факт – фактом, т. е. он представляет собой нечто первичное. Суждение о факте (высказывание), смысловое, вербальное его оформление занимает место вторичного, хотя, по Расселу, утверждение, суждение – тоже факт.
2. Произошло событие Б. Журналист на нем не присутствовал. Но это событие осталось в памяти очевидцев, зафиксировано документально. На помощь журналисту приходит язык. «Сущность языка в том, что он утилизирует те элементы опыта, которые наиболее легко абстрагируются сознанием и легко воспроизводимы в опыте. В ходе длительного употребления их человечеством эти элементы ассоциируются со своими значениями, которые охватывают огромное разнообразие человеческого опыта. Любой язык сохраняет от забвения историческую традицию. Он есть культура выражения тех общественных систем, которые им пользуются. Язык – это систематизация выражения» (270, 365). При такой системе сбора фактического материала журналист получает психические образы фактов, к которым уже применимы оценочные коннотации, даже в документах. Реальными фактами будут факты его встреч со свидетелями, факты изучения документов. Все остальное – отголоски фактов. Истинны они или ложны, зависит от точности их передачи других лиц журналисту, соответствие высказываний реальности. Отсюда следует, что исследование проблемы реальности выводит нас на принцип непрерывности реальности: каждый факт имеет свою логическую структуру и связан с другими фактами, имеющими свою логическую структуру, природу. Природа события имеет свою иерархию, в которой факты сходятся в некое единство как в свою реальность.
Факт бытийный, реальный может быть верифицирован (он приехал, предприятие обанкротилось, прошла уборка, произошла авария и т. д.) достаточно легко, т. к. здесь присутствует действие и «реальность относится к тому, что удостоверяет самое себя» (146, 49). Сложнее обстоят дела с верификацией факта оценочного суждения, факта «языковой формы».
Обратимся к исковому заявлению: «Бездоказательно и без каких-либо фактов газета публично заявляет посредством поговорок, что на воре (т. е. у меня) шапка горит, что я съел (украл) чужое сало, а вылезшими и торчащими ушами обзывает меня известным по поговорке животным». Здесь мы сталкиваемся с языковым фактом, который можно определить как «материальную метафору», т. е. уподобление природе, восприятия природы определенного объекта <...>. Использование такого рода метафор весьма показательно с точки зрения определения неизвестного через известное, а также менее «материального» через более «материальное». Языковое сознание пытается как-то адаптировать, описать, познать нечто, что обладает предметностью и вещественностью, выражает это нечто в материальных терминах» (238, 761).
В данном случае истец считает поговорки распространением сведений, не соответствующих действительности, т. е. фактов, которые не могут быть верифицированы. Даже если воспользоваться методом перифраза, то мы в итоге получим, что истец действительно не воровал сало. Следовательно, нужен другой метод. По мнению Ю. С. Степанова, «факты могут иметь собственную языковую форму, т. е. вообще поддаются установлению в указанном смысле слова «устанавливать факты» лишь там, где имеются группы предложений (высказываний), заведомо относящихся к одной и той же ситуации и являющихся перифразами друг друга» (238, 761).
Выражение, языковое оформление события имеет и смысловую основу. Поэтому, видимо, нужно анализировать и «работать» со смыслами, а не с «прямым» текстом. Тогда заложенные в текст смыслы обретают основу и получают форму, при которой можно «устанавливать факты», характеризуемый класс объектов.
Категория «факт» во многом тождественна категории «причина». По мнению З. Вендлера, «... причины подобно следствиям являются событиями или слово cause хотя бы иногда обозначает событие..., причину можно локализовать, ... она может быть тайной или отдаленной, а это указывает на то, что причины могут располагаться в пространстве. Однако это выражение некорректно, поскольку оно не учитывает метафоричности соответствующих выражений. Метафоры ... помещают факты, причины и результаты в логическое, но не физическое пространство» (238, 761).
Все мы живем в мире объективной реальности, окруженные реальностью, которая представляет собой не только вещи, но и мысли, идеи, отношения, поступки и т. д. Текст является отражением реальности, референтом реальности является человек, пишущий или говорящий. Ткань текста пронизана фактами – суждениями, высказываниями, утверждениями, т. е. наименованиями, которые что-то описывают, одобряют, отрицают, словом, отражают объект внимания, интереса. Внимание не может быть всеобъемлющим, оно всегда вычленяет фрагмент и конкретизируется на нем, давая ему имя и информационную значимость. «Перемещения» по объекту, событию, вещи происходит под определенным углом зрения. Далее происходит процесс «объяснения детерминации (определения) перевода» знания о фрагменте на язык пользователя (публицистики, права, экономики, жаргона). Знание о фрагменте трансформируется в линейную совокупность словесных суждений, высказываний, выражений. Факт есть отражение действительности; «реально перед нами находится не действительность просто, но те или другие ее стороны, те или другие ее виды, те или другие ее образы. Образ действительности – вот то, что реально имеет значение в действительности. Не действительность вообще, не действительность в абстракции, хотя бы даже содержащая в себе в абстрактном синтезе идею и материю, и не действительность вне всяких внутренних своих различий нас привлекает, но действительность, явленная в том или ином специальном образе, действительность, запечатленная в той или иной определенной форме (143, 806–807).
Образ действительности не представляет собой нечто отдельное, он связан с действительностью, составляет один факт. У каждой действительности (т. е. факта) могут быть разные образы. Это зависит от ее восприятия. Поэтому в исследовании необходимо найти такой термин, в котором «подлинность» и «действительность» и ее «образ» слились бы в одно целое, в котором и то и другое было бы дано сразу, без разделения уже на «действительность» и «образ» (143. 807). У Лосева таким термином является «выражение», в понятии которого содержится как момент некоей реальности, так и ее выхождения из своего внутреннего пребывания в себе в свет внешний и явленный образ. В термине «выражение» действительность и ее образ сливаются в единый и нерушимый, незримый лик выражения или выраженной действительности, т. е. если применять эту максиму к журналистике или праву, то можно сказать, что выраженная действительность есть верифицированное событие, факт.
Действительность продуцирует себя в имени, «в именовании выражение наполняется активностью и действительностью, почему имя и всегда активно, динамично, хотя бы в потенции. Это и есть подлинная действительность» (143, 809).
Но «выраженная действительность» имеет природу действительности отраженной, т. е. факт факта или мыслимой реальности, созданной в терминах выражения, причем созданная реальность сама по себе выражается в терминах достижения цели, образованных сущностей.
Действительное или истинное есть соответствие реальности и существования, и «это соответствие отражает процесс осуществления становления реальности через категории моральности, где центральной является существование тождественное актуальности или действительности» (146, 56).
«Мысленная реальность» – категория, присущая журналистике и праву, охватывает целостность, т.е. «качество целого иного, чем охватываемая реальность» (146, 65).
Мысленная реальность образует знание, а знание – реальность, которая есть в смысле тождества, действительности и обоснованности – знание. При подготовке публикации журналист осмысливает собранные факты, точнее данные, так же как судья при вынесении решения. Перед ними стоит задача выявления знаний о предмете, объекте. Действительность в процессе мышления нельзя повторить, ее можно только мысленно продуцировать, причем, субъективно, т. е. с наложением на мысленную реальность восприятия, убеждений, языковых форм. За всем этим стоит субъект. «Формы познания, их можно обозначить как предсубъективные, образуют номинальные определения познания в противоположность его реальности. Эта противоположность возникает явным образом тогда, когда признается случайный характер «истин дела» (146, 67).
В процессе осмысления само мышление интересует не столько объект как таковой, сколько сама мысль об этом объекте. И здесь объект вторичен, первичным является то, что мыслится в объекте. Мысль как бы охватывает и сама себя, и объект, дополняя друг друга, ориентируясь на идеальное как норму, отражая эту норму как тотальность.
Субъект, исследуя бытие, реальность, действительность, отражает свое качество быть ... «нечто». Это «нечто» – мыслящее, воспринимающее, предписывающее свои законы объекту, само становится объектом при первой попытке анализа или отражения самого себя. «Субъект есть сама реальность. Реальность как сущность субъекта делает возможным относить формы восприятия с объектом, устанавливать их достоверность, истинность или логичность, а также значимость. Вне субъекта вещи ни истинны, ни ложны. Достижение вещей, объектов осуществляется в своеобразии пределов языка, чувств, мышления и созерцания, интуиции. Эти пределы образуют свои реальности. Поэтому требуется установить, что является из них истинным и, значит, реальным. Однако истина одна и, по определению, есть то, что есть вещь, объект, предмет. Здесь отсутствует и невозможно однозначное решение» (146, 75–76).
Цитата несколько длинновата, но необходима и органично вписывается в ткань дальнейших рассуждений.
Осмысление фактуальной базы порождает свои реальности, которые могут в тексте публикации или решения суда стать доминирующими. Истина уходит на задний план, а ее место занимают рожденные в языковом и мыслительном конфликте «частные истины». Приведем пример «порождения новой реальности». В белоглинской газете «Белоглинские вести» была напечатана заметка «Красиво жить не запретишь?». Есть смысл дать ее полностью: «Еще совсем недавно, находясь с Г. В. в депутатском корпусе, мы вместе возмущались, когда В. И. без согласования с представительным органом купил новую «Ниву». И это в то время, как в районе множество социальных проблем. Сейчас этих проблем стало еще больше, а глава покупает не одну, а уже две машины – сначала «Ниву», а совсем недавно «Волгу». Наши депутаты, извините, даже ухом не ведут, хотя бюджетные средства глава не может расходовать без соответствующего решения районного совета. Насколько мне известно, в бюджете на 1997 г. не записано, чтобы выделялись средства на покупку машин. Это ж надо так не уважать обездоленных избирателей, чтобы так поступать? Ну и дела!»
Местное самоуправление быстро отреагировало в защиту главы. В защитном слове было сказано, что депутаты не могут принять обвинения автора, что покупка «Нивы», оказывается, пополнила бюджет района, что деньги на нее выделил Кореновский сахзавод по письму главы администрации. Письмо крайне интересное, и его нельзя обойти вниманием: «В связи с трудным материальным финансовым положением, сложившимся в нашем районе, и учитывая долгосрочные партнерские отношения по вопросам заготовки в нашем районе сахарной свеклы для переработки на Кореновском сахарном заводе, просим Вас оказать финансовую помощь в размере 43 млн. рублей».
Под это «трудное финансовое положение» были получены деньги, на них куплена «Нива» и передана главному экономисту администрации, которому она просто «необходима». Как расценивать действия главы в плоскости морали? Ответ однозначный. Однако суд признал версию истца, что он опорочен, оклеветан, оскорблен, поскольку 43 млн. были перечислены не в бюджет района, а во внебюджетный фонд, а коли так, то наличествует несоответствие сведений действительности, т. е. презумпция ст. 152 ГК РФ. Ловушка захлопнулась, ибо несоответствие сведений действительности доказать легче, так как они относительно конкретны, а нарушения морали – невозможно.
Итак, в этой заметке «Красиво жить не запретишь?» основным фактом или отправной точкой послужила покупка «Нивы». Вокруг него группируются другие, сопутствующие и/или дополняющие факты, которые сами по себе не приводят к оценке.
Сама действительность в заметке отражена точно: мыслительная реальность (публикация) тождественна бытию, действительности. Факт – «в бюджете не было записано, чтобы выделялись средства на покупку машин» – тоже соответствует действительности. Истец выстроил новую мыслительную реальность, ввел «факты», что из бюджетных средств деньги не тратились, следовательно, покупка машины из денег, выделенных сахарным заводом, оправдана. Произошло столкновение действительностей и мысленных реальностей. Графически это можно выразить следующим образом.
Действительность 1 (автора)
1. Факт совместной работы в депутатском корпусе.
2. Факт возмущения по поводу покупки машины без согласования с депутатами.
3. Факт наличия социальных проблем.
4. Факт, что субъекту неизвестно, что в бюджете запланированы суммы на покупку «Нивы».
5. Факт того, что проблем стало больше.
6. Факт, что куплена «Нива» и «Волга».
7. Факт, что депутаты ухом не ведут.
8. Факт, что бюджетные средства глава не может расходовать без разрешения районного совета.
Действительность 2 (истца)
1. Факт совместной работы в депутатском корпусе.
2. Факт возмущения по поводу покупки машины без согласования с депутатами.
3. Факт наличия социальных проблем.
4. Факт покупки «Нивы» и «Волги».
5. Факт, что депутаты ухом не ведут, т. к. машины куплены не за средства бюджета, а из внебюджетного фонда.
Мыслительная реальность 1 (автора)
1. При многочисленных социальных проблемах нужно было 43 млн. руб. потратить на решение этих проблем.
2. Нынешний глава администрации Г. В. возмущался поступком бывшего главы В. И.
3. Неужели нужда в машинах для администрации больше, чем нужда рядовых граждан?
4. Что важнее: социальные проблемы района или машины для администрации?
Мыслительная реальность 2 (истца)
1. Социальные проблемы в районе есть, но на их решение в бюджете заложены средства.
2. Глава администрации вправе использовать внебюджетные средства без согласования с депутатами.
3. Администрация – власть, а власть не обязана отчитываться о своих действиях.
4. Публикация подрывает авторитет власти: «Это же надо так не уважать обездоленных избирателей, чтобы так поступать?»
Исследуя действительность a posteriori, мы исследуем не саму действительность (объект, вещь, событие), а ее смысл. «Существует вещь, и существует ее смысл. Вещь не есть ее смысл, и смысл вещи не есть сама вещь. Можно общаться с самой вещью и можно общаться с ее смыслом. Общение с вещью в ее имени есть общение смысловое» (143, 815). В журналистике между адресантом и адресатом идет смысловое общение. В суде, исследуя материалы дела по факту публикации, идет процесс исследования «вещного», а не смыслового.
«Если мы будем определять достоверность показания тем, как человек говорит, как держит себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные за ложные и, наоборот, примем оболочку показания за его сущность, за его сердцевину. Поэтому надо оценивать показания по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому и если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовой житейской обстановкой тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым. Могут быть неверны детали, архитектурные украшения, мы их отбросим, тем не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, неправильные подробности» (129, 50).
Вернемся к заметке «Красиво жить не запретишь?». Логика вещного исследования была такова: Имел ли право глава администрации расходовать внебюджетные средства без разрешения депутатов? Да, имел. «Волгу» и «Ниву» он купил из бюджетных средств? Нет. Следовательно, авторская мысленная реальность не соответствует действительности. Но если она не соответствует действительности, значит, она не существует? Это противоречие суд обошел стороной, чтобы не завязнуть в новых сущностях и не исследовать смысл вещи (события).
Вещь (объект, события) скрывала в себе имплицитную оценку: глава совершил плохой (аморальный, недостойный) поступок, вот имя этого деяния. Это был «лик выражения или выраженной действительности». Новая действительность (авторская) была перенесена в свой образ и своим присутствием заставила образ перейти в постоянное наполнение и становление, заставила образ перейти в наступление, активизировать выражение, делать его наступающим. Факт стал именем вещи (события) и воздействовал на чувства, реализовал свою значимость, которая могла пониматься как рационально, так и иррационально. «Имя вещи пребывает в сфере смысла, в сфере ума, в сфере сознания, при самом широком и всеобъемлющем значении этих терминов, ... имя есть орудие смыслового общения, общения в разуме, в сознании, а не вещественного, не телесного, не материального общения. Оно идет от смысла к смыслу, оно объединяет одну идею с другой, одно сознание с другим» (143, 816).
Таким образом, в журналистике и праве оперирование фактами действительности есть оперирование смыслами, выражениями действительности. Фактичность, по мнению А. Уайтхеда, есть абстракция, полученная в результате ограничения мышления чисто формальными отношениями, маскирующимися под саму реальность.
Во многих правовых системах предоставлена очень широкая защита любым эпитетам и имплицитным оскорблениям, критике, обзорам, субъективным мнениям, спекуляциям, выдумкам, т. е. всему тому, что появляется в публичных спорах и не является выражением фактической информации. Эти элементы текста достаточно четко ориентируют читателя, что это не выражение фактов, а субъективное выражение мнения.
Джон Закер, юрист телесети Эй-би-си (США), приводит ряд интересных примеров. Судебные иски по таким претензиям были и в России, но решение по ним принято иное, чем в США.
Члены профсоюза в одной из публикаций назвали члена этого профсоюза предателем. Он подал в суд, и дело дошло до Верховного суда США. Суд постановил, что в некоторых контекстах «предатель – это могло быть фактическое утверждение, т. е. если он был, допустим, стукачом, передавал информацию врагу, это был бы действительно предатель. Однако в профсоюзном конфликте ясно, что люди очень оживленно переругивались, и слово «предатель» употреблено в значении того, что он не вступил в профсоюз, а не потому что он сотрудничал с врагом. Все факты были установлены, и в постановлении Верховного суда говорилось: если вы сможете установить реальные факты и придать им субъективную окраску – разумную или неразумную, приемлемую для многих или нет – это не имеет отношения к делу. Словом, языковой факт был четко отделен от факта «материального», событийного.
Еще один пример из работы Верховного суда США. Это касается слова «шантаж». Шантаж является преступлением. Шантаж – это попытка получить какие-то уступки у другого человека, поскольку имеется власть над ним. Но это слово было использовано в какой-то публичной встрече, потому что была попытка получить какие-то уступки у города, а строитель хотел, в свою очередь, купить землю в городе. Была сказана фраза: «Это шантаж». Это было опубликовано в газете, и строительная компания подала иск, т. е., другими словами, эту компанию обвинили в преступлении. Однако решение было такое, что это не было признано обвинением в преступлении; это была просто дискуссия, где была применена вот такая гипербола.
Рассмотрим дело со словом «фашист». Жириновский и другие подавали иск на своих политических противников за публикацию материалов, в которых их сравнивали с фашистами. Что-то в прессе было о том, что Жириновский является самым популярным фашистом в России. Были аналогичные дела и в США, но результаты диаметрально противоположные тем, что были в России. Например, консерватор Бакли придерживается правых убеждений. Он писатель, и его обозвали «попутчиком фашистов». Бакли подал иск и проиграл. Суд решил, что значение слова «фашист» очень не точно, оно используется в политических дискуссиях слишком широко, и невозможно доказать, является ли это утверждение ложным или правильным – это слишком большая гипербола (10, 78–81).
Жириновский в деле против Гайдара, назвавшего его фашистом, выиграл процесс.
По мнению американских юристов, должна быть какая-то база для того, чтобы поддержать это мнение, если этот факт оказывается верным, тогда выражение мнения или заключение ума не подпадает под действие диффамационного закона.
На наш взгляд, более приемлемой является точка зрения А. Р. Ратинова, который считает, что в «текстах СМИ содержатся не факты, а сообщения о каких-то событиях. Что касается факта, то сложность этого понятия и в науковедении, и в гносеологии, и в логике приводит к тому, что подчас фактами называют бог знает что, в то время как факт – это просто знание, достоверность которого установлена и доказана (10, 87). Фактом информация становится тогда, когда достоверно установлено соответствие действительности того или иного сообщения.
В статье 43 Закона о СМИ и ст. 152 ГК РФ говорится о сведениях, не соответствующих действительности. Но сведения имеют двоякий смысл. Сведения как сообщения о каком-то событии (явлении, предмете, лице, действии, процессе), т. е. сообщения бытового характера, они действительно могут и не соответствовать действительности или соответствовать. Сообщение может быть истинным и ложным.
В формальной логике оперируют понятиями истинности и логичности. Но эта академическая пара не вполне точна с точки зрения нравственно-психологической характеристики Лжи. Ложь – это не все то, что не соответствует действительности. Ложь – это не антоним истины. Лжец – это всегда человек, который осознает несоответствие действительности сообщаемой информации... соотношение между фактом и мнением – это не соотношение между формой и содержанием... нужно говорить о бытийной или событийной информации и о сведениях, которые относятся к какому-то явлению... и т. д. Они действительно могут соответствовать/не соответствовать действительности. Такими сведениями также являются и вербальные факты, и наши оценки, суждения, идеи, представления – то, что следует именовать оценочной информацией.... Оценочная информация не может быть опровергнута по суду..., во многих текстах мысли автора бывают завуалированы, многие сообщения представляют собой совокупность и событийных, и оценочных суждений. Нередко возникают большие трудности, что именно должно быть оценено по критерию истинности, а что представляет собой мнение собственно критическое, запрет которого был бы ограничением слова и свободы массовой информации, ограничением права на свободу самовыражения.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» в пункте 9 сказано, что «в соответствии со статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности». Данная юридическая презумпция во многом облегчает жизнь журналистам, но пользоваться распространением своих оценок нужно крайне осторожно, поскольку мнение или оценочное суждение должно быть адекватно описываемому поступку. В противном случае суждение, как языковой факт, имеет потенциальную возможность стать предметом судебного разбирательства.
Отсюда следует, что Факт – это знание, достоверность которого установлена и доказана. В журналистике и праве фактом информация становится только тогда, когда достоверно установлено соответствие действительности того или иного сообщения. Факт не может быть ложным, тогда это уже не факт, а информация, которая не соответствует действительности. Факт – это сообщение о событии/ явлении, не отягощенное мнениями, впечатлениями, оценками, эмоциями. Оценки, мнения, впечатления, отраженные в тексте, являются языковыми фактами, но не фактами реальности. Юридические и языковые факты имеют разную природу и в суде должны рассматриваться по разным методикам. Факт есть сущность и существование; психический образ факта (события, явления), т. е. его номинация, эмотивно-оценочный компонент не могут рассматриваться как факт. Факт или действительность нельзя повторить в процессе мышления; факт можно мысленно продуцировать, что генерирует наложение восприятий, оценок.
Концепты Честь и Достоинство
Честь и Достоинство почти не отличаются в лингвистической и юридической формулировках.
«Честь – общественно-моральное достоинство, то, что вызывает и поддерживает общее уважение, чувство гордости (195, 868).
«Достоинство – а) положительное качество, б) совокупность свойств, характеризующих высокие моральные качества, а также сознание ценности этих свойств и уважение к себе» (195, 868).
Обратимся к формулировкам Чести, Достоинства, которые изложены у в Толковом словаре живого великого русского языка В. Даля: «Честь – внутреннее, нравственное достоинство человека, достойность, честность, благородство души и чистая совесть.
Условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое. «Честь моя этим обижена. Не платить долгов можно, но честь требует уплаты картежных долгов» (96, 599).
«Достой, достойность – приличие, приличность, соразмерность, сообразность; чего стоит человек или дело, по достоинству своему. Сделать что по достою, как должно, как следует, достоить, по приличию и стоимости.
Достойный чего, стоющий, заслуживающий, подлежащий, должный, приличный, сообразный с требованиями правды, чести. Достойный человек, уважаемый, ценимый» (96, 478–480).
Этимология слова «честь» достаточно подробно изложена у Макса Фасмера в «Этимологическом словаре русского языка»: «Честь – честный, честной крест, чтить, потчевать; укр. – честь, блр. – чесць, др.-рус. – чьсть, ст.-слав. – чьсть, болг. – чест, сербохорв. – част, словен. – cast, чеш. – cest, польск. – czesc // Праслав. cbstb, связанное со ст.-слав. чьтж, чисти, родственно др.-инд. cittis – «мышление, понимание, намерение», авест. cisti – «мышление, познание, понимание» (273, 350).
«Честь и достоинство – это оценочные и связанные между собой нравственные категории. Отрицать или умалять эти качества другого человека значит позорить его в представлении других людей» (310, 340).
«Честь – это социально значимая положительная оценка моральных и иных черт и свойств, облика гражданина или организации, позитивно определяющих их положение в обществе. Честь выражает объективно значимые положения лица. Достоинство – отражение этого положения в сознании личности (организации), т. е. самооценка личности (организации), основанная на его оценке обществом» (251, 96).
Есть и другие формулы Чести, внешне совпадающие, но семантически отличные от общепризнанных. К примеру, некоторые ученые считают, что «чувство чести» и чувство собственного достоинства – это моральные чувства. Сознание чести и сознание собственного достоинства – это нравственные понятия (251, 96). Отсюда следует, что честь и достоинство достаточно широкие, глубокие по содержанию, диалектические по своей природе понятия, могущие восприниматься в сфере нравственного сознания (как чувства или как понятия) и в сфере этики (как категории морали).
В основе многих определений Чести и Достоинства лежит представление о Чести и Достоинстве, сформировавшиеся в Древней Греции и Древнем Риме, где эти категории определяли отношение к человеку как высшей общественной ценности. Общественное мнение и идеи о нем оценивались выше законов.
Честь и Достоинство были реальным двигателем высших устремлений и побуждали к подвигам. Стремление к общественному признанию, боязнь общественного порицания за несоблюдение норм Чести считались общераспространенным мотивом поведения. Лишение чести вело к лишению гражданских прав.
Категории Чести и Достоинства наиболее полно разработаны Аристотелем в «Никомаховой этике» и «Политике». Все позднейшие интерпретации этих понятий в основе своей содержат аристотелевские положения. Честь и Достоинство, по Аристотелю, это почет. «Люди достойные и деятельные (praktikoi) [понимают под благом и счастьем] почет, а цель государственного образа жизни почти это и есть. Считается, что почет больше зависит от тех, кто его оказывает, нежели от того, кому его оказывают, а в благе мы угадываем нечто внутренне присущее и неотчуждаемое. Кроме того, к почету стремятся, наверное, для того, чтобы удостовериться в собственной добродетели» (11, 58).
Интересны его рассуждения о Чести и бесчестии. «В отношении к чести (time) и бесчестию (atimia) обладание серединой – это величавость (megalopsykhia), избыток именуется, может быть, спесью (khaunotes), а недостаток – приниженностью (mikropsykhia)». Люди делятся на три категории, где определяющим признаком служит чувство собственного достоинства, стержневой элемент любого свободнорожденного человека. «Чувство собственного достоинства (semnotes) – середина между своенравием и подхалимством. Оно проявляется при взаимном общении людей. Своенравный таков, что не способен ни общаться, ни разговаривать с кем-либо. Само имя, по-видимому, указывает на его характер: своенравный – это как бы нравящийся сам себе и довольный самим собой. А подхалим – это умеющий общаться со всеми, всячески, везде. Ни тот, ни другой не похвальны. Похвален тот, у кого есть чувство собственного достоинства; как средний между ними, он общается не с любым без разбора, а с достойным и не сторонится всех, но входит в общение с достойными же» (11, 322–323). Из этих определений следует аристотелевская формула воспитания достойного гражданина государства. «Разумно отстранить от ушей и глаз детей все то, что не соответствует достоинству свободнорожденного человека. Да и вообще законодатель должен удалить из государства сквернословие, как и кое-что другое (потому что из привычки сквернословить развивается и склонность к совершению дурных поступков), в особенности у молодых, чтобы они не говорили сами и не слышали от других чего-либо подобного. Если же обнаружится, что кто-нибудь говорит или делает то, что запрещено, то человека свободнорожденного, но не зачисленного еще в сисситии, следует подвергать бичеванию, а если он уже старше этого возраста, то подвергать его бесчестью, недостойному свободного человека, из-за его рабского поведения» (11, 625–626). У Аристотеля понятия Чести и Достоинства имеют определенную направленность и общественную значимость; честью наделяют, ее же при недостойном поведении и лишают.
Таким образом, при определении Чести можно выделить два аспекта: объективный и субъективный. В первом случае Честь – это общественная оценка общественного признания заслуг, поведения и безусловное стремление поддержать утвердившуюся оценку, свою репутацию. Оценка деятельности человека обществом, признание его положительных качеств воспринимаются личностью как нечто объективное. С этой стороны Честь выступает как этическое благо, как оценочная категория, направленная от общества к личности.
Есть точки зрения, допускающие слияние понятий Чести и Достоинства, сведения их в единую плоскость. Так, Е. Г. Федоренко пишет: «Категория чести выражает личное достоинство человека, сознание им своей человеческой ценности в обществе, а также признание со стороны общества» (274, 155). На наш взгляд, здесь заложен парадокс: человек может по общественному признанию быть бесчестным, но иметь свое личное достоинство, которого его никто лишить не вправе.
Субъективная, личная сторона Чести связана со способностью человека оценивать свои поступки, регулировать эгоистические стремления, направляя их в русло общественно полезной деятельности, избегая поступков, которые бы расценивались обществом как бесчестные, ориентация на моральные нормы, правила, требования, принятые в той общественной сфере, в которой живет личность. «Когда моральные идеи общества становятся внутренними убеждениями человека, – пишет И. Стремякова, – они приобретают личный характер, выступая внутренним побудителем, мотивом его нравственного поведения. Так социальное переходит в индивидуальное. Сознание человеком своей общественной оценки становится внутренним мотивом, которым он начинает руководствоваться в своей практической жизни и нравственной деятельности. Здесь в категории чести проявляется ее мотивирующий характер. Когда же нравственный поступок совершается, субъективное – мотив – вновь становится социальным» (251, 100).
Следуя за мыслью И. Стремяковой, можно Честь определить не как абстрактное понятие, что делают некоторые философы и юристы, а конкретизированное – обладание Честью возможно в том случае, если соблюдается определенный нравственный регламент, принятый в обществе. Это характерно для малых социальных групп (малых не в смысле количества). Таким образом, Честь можно характеризовать как часть ритуала, который является традиционным и неизменяемым в обществе в течение многих веков.
Настоящей сокровищницей формул Чести является русский фольклор. В пословицах и поговорках в полной мере видна абсолютизация понятий Чести и Достоинства.
«Всякому своя честь дорога», «Выгода на миг, доброе имя навек», «Есть честь – береги, а нет – не напрашивайся», «Живи своим умом, а честь расти трудом», «За доброе имя и честь приготовься и голову снесть», «За честь – хоть голову с плеч», «Легче в драке, нежели в бесчестье мириться», «Увечье чести не отнимет», «Честь на волоске висит, а потеряешь, так и канатом не привяжешь».
Личная сторона Чести неразрывно связана с общественной, прямо обусловлена ею и подчиняется последней. Впрочем, здесь есть взаимное воздействие.
Общественное мнение, от которого человек не может уклониться, если он не находится в положении Робинзона, благодаря опосредованному общественному насилию, заставляет его выполнять принятые нравственные нормы, без соблюдения которых Честь лишается своего ритуального значения. При этом сказывается боязнь негативной оценки поступков, а также вошедшие в привычку позитивные поведенческие стереотипы. Общественное мнение – страж, направляющий силу человеческого поведения. В то же время оно (общественное мнение) есть совокупный продукт массового сознания социальных групп и слоев. По мнению А. И. Пригожина, «общественное мнение – это массовое высказывание, выражающее определенное отношение различных социальных категорий и слоев к какой-то интересующей их проблеме» (209, 15), и мы бы добавили – и интересующей личности.
Любому человеку, какую бы он ступеньку на общественной лестнице ни занимал, волей-неволей приходится мириться с тем, что другие люди оценивают его поступки по-своему, исходя из собственного видения, опыта, внутреннего убеждения. «На чужой роток не накинешь платок», следовательно, не в его силах воспрепятствовать появлению разноречивых оценок своей личности, деятельности. Он при любых обстоятельствах не может подчиняться началу свободного выбора, останавливаясь на позитивном и оставляя незамеченными негативные проявления личности.
Происходит постоянное оценивание себя через других и других через себя. Забота о собственной Чести стоит на первом месте, ею дорожат даже самые независимые. Аморальные люди не дорожат или дорожат в малой степени внешней Честью, но корпоративная и личная честь все же стоят у них на первом месте.
Поскольку Честь и Достоинство – категории нравственности, то здесь уместно привести высказывание Ф. Ратцеля. В своей книге «Народоведение», исследуя проблему развития нравственности у народов, находящихся на низшей ступени цивилизации, он пишет: «Влияние нравственных идей у народов этой ступени повсюду незначительно, и нравственность является не столько удовлетворением нравственного чувства, сколько вопросом о нарушении частного права» (218, 120).
Честь и Достоинство – это частное право каждого человека. С Ф. Ратцелем можно полностью согласиться. Эту же мысль подтверждает Т. Липпс: «Моя честь может быть только моей честью. Другие люди хотя и могут подтверждать ее во мне, но не в состоянии дать мне ее. Равным образом на меня не может быть перенесена честь моего сословия. Ни то почтение, которым я пользуюсь со стороны лиц моего сословия, ни то, которое оказывается моему сословию, не могут доставить мне чести, если во мне ее нет» (155, 130).
Собственно, понятие Чести является категорией исторической, и складывалось оно в процессе развития человеческого общества, а поэтому ни личность, ни общество не в состоянии декларативно отменить эту нравственную категорию. Другими словами, пока существует общество, малая или большая группа людей, связанная между собой определенными отношениями, члены коллектива будут оцениваться со стороны окружающих лиц. При этом общественная оценка не зависит от воли, желания и притязаний оцениваемого лица.
Следует обратить внимание на явление двойственности Чести. Любой член общества, государства изначально наделяется Честью. Статья 21 Конституции Российской Федерации гласит: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления» (139, 79). Статья 23 Конституции РФ: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени» (139, 85). Для современного государства предметом (объектом) уважения является гражданин как таковой, и подвергать нравственной оценке каждого гражданина государство не в состоянии. А отсюда следует, что перед государством все граждане равны, все наделены Честью, которая охраняется и защищается законами государства.
Но в уважении со стороны государства к личности и уважении личностей между собой есть существенная разница. В отношениях между людьми существует масса оттенков, различных вариантов, оценки людей друг другом бывают неоднозначны и полярны; в отношениях между государством и личностью, т. е. уважении государства, существует только одна гражданская честь, которая государством оказывается в равной мере каждому лицу и которая исчезает в случае уголовного наказания.
В российском законодательстве второй половины прошлого века по Уставу уголовного судопроизводства применялось наказание, имеющее значение «гражданской смерти», при которой осужденный лишался всех прав, свобод и Чести.
Процитируем статью 963 Устава Уголовного судопроизводства (принят в 1864 г.):
«1) Пред совершением казни к осужденному, хотя бы он был приговорен не к смертной казни, а к наказанию, имеющему значение гражданской смерти, приглашается духовное лицо его вероисповедания для приготовления его, смотря по правилам сего вероисповедания, или к исповеди и к святому причащению, или только к покаянию и молитве. Духовное лицо сопровождает осужденного и на место казни и остается при нем до исполнения приговора, напутствуя его к открывающейся перед ним, здесь или в ином мире, новой жизни.
2) Осужденный отправляется на место казни в арестантском платье с надписью на груди о роде вины его, а если он изобличен в убийстве отца или матери, то и с черным покрывалом на лице. До места казни он препровождается на возвышенных черных дрогах, окруженный воинской стражей.
3) По доставлении осужденного на место казни прокурор, распоряжающийся исполнением приговора, поручает сопровождающему его секретарю суда прочесть приговор во всеуслышание.
4) Затем преступник, если он осужден к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы или на поселение, выставляется на эшафот к позорному черному столбу и оставляется в сем положении в течение десяти минут. При этом над лицом, принадлежащем к дворянскому состоянию, переламывается шпага.
5) После сего осужденный отправляется в место заключения в обыкновенной для препровождения арестантов повозке» (223, 212–213).
Лишения внешней чести (гражданской) сопровождалось также и изъятием государственных наград, титулов и т. д. Статья 961 Устава уголовного судопроизводства гласила: «От приговоренных к наказаниям, соединенным с лишением прав и преимуществ, отбираются ордена и другие знаки отличия, если они их имеют, а также принадлежащие им лично грамоты, патенты и аттестаты».
С этой точки зрения гражданская Честь тождественна обыкновенной внешней чести. Объективный характер категории Чести проявляется в том, что в основе представления о Чести лежит определенный критерий нравственности, который не допускает произвольного толкования того, что является Честью или бесчестием. Однако это вовсе не исключает возможности формирования неадекватной общественной оценки о конкретном человеке в сознании других людей.
Честь и Достоинство неразрывно связаны, и эта связь вполне объяснима, так как, находясь в определенном обществе, человек не может не считаться с тем, как его оценивают другие, как он выполняет нравственные нормы и правила, которые регламентируют определенное поведение для лиц определенного круга.
Одним из основных понятий гуманизма является категория человеческого достоинства, которая имеет ряд конкретных значений:
а) ценность человека вообще – человеческое достоинство; б) ценность личности – личное, персональное достоинство; в) ценность представителя социального слоя, корпорации – достоинство рабочего, офицера, врача, учителя, служащего, судьи и т. д.; г) ценность политико-административной общности – достоинство региона, в котором живет человек, страны; д) историческая ценность – достоинство рода, семьи, к которой принадлежит человек.
«О неразрывной связи между честью и достоинством свидетельствует и то обстоятельство, что в их основе лежит единый критерий нравственности. Между тем, несмотря на неразрывную связь, существующую между общественной оценкой лица и его самооценкой, между честью и достоинством существуют и различия. Они заключаются в том, что честь – объективное общественное свойство, а в достоинстве на переднем плане – субъективный момент, все зависит от самооценки. Отсюда можно сделать вывод, что достоинство человека находится в определенной зависимости от его воспитания, от внутреннего духовного мира, особенностей его психического склада. В конечном итоге все зависит от способности человека должным образом оценить то мнение, которое сложилось о нем у окружающих» (4, 16).
Статья 152 Гражданского кодекса РФ определяет защиту Чести, Достоинства и деловой репутации следующим образом: «Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности». На передний план здесь выходит опорочивание (порочить: 1) осуждать, признавать негодным; 2) позорить, распространять предосудительные сведения) (195, 555). Между порочащими сведениями, клеветой и оскорблением наблюдается родственная связь, т. к. здесь используется оскорбительная диффамационная цепь, смещение образа. «Под порочащими сведениями понимаются действия по их распространению, исключающие уголовную ответственность их распространителя, но сообщающие для всеобщего сведения или отдельным лицам не соответствующую действительности общественно значимую и тем самым дискредитирующую человека информацию, умаляющую его доброе имя как личности и как работника, причиняющую нравственные страдания, а для юридического лица – порочащую его деловую репутацию». В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» дается следующая юридическая формула: «Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица». Здесь выражено пять положений, определяющих понятие «порочащие сведения».
Несомненный интерес представляют мысли Николая Рериха из сборника «Врата в будущее» о клевете. «Клевета есть передача лжи. Все равно, будет ли ложь передаваема по легкомыслию, или по злобности, или по невежественности – семя ее будет одинаково вредоносно. Опять вспоминаю замечательный ответ Куинджи, который сам так не терпел всякую ложь. Куинджи находился в плохих отношениях с Дягилевым. Один художник, зная это и, вероятно, предполагая, что Куинджи понравится дурное сведение о Дягилеве, рассказал какую-то мерзкую сплетню. Куинджи слушал, слушал, а затем прервал рассказчика громовым восклицанием: «Вы клеветник!» Передатчик сплетен, потерпев такое неожиданное для него поражение, пытался оправдаться тем, что не он сочинил эту сплетню, но он лишь передал ее, даже «без умысла, только для сведения». Но Куинджи был неумолим, он продолжал сурово смотреть на злосчастного передатчика и повторял: «Вы принесли эту гадость мне, значит, вы и есть клеветник».
Сколько таких самооправдывающихся клеветников нарушают строительную атмосферу. Они разбрасывают самые ядовитые зерна и пытаются прикрывать какой-то своей непричастностью. Они-де и не думали о каких-либо последствиях. Они-де сообщали лишь для сведения, точно бы каждая клевета или ложь не сообщается именно «для сведения».
«Клевещите, клевещите, всегда что-нибудь останется». Какая в этом заключена забота, чтобы что-то злобное осталось. Таким образом, некоторые люди более заботятся о сохранении чего-то злобного, нежели доброго. Доброе в какой-то степени всегда будет заключать отсутствие самости, но злое, прежде всего, эгоистично. И если человек станет уверять, что он совершил нечто злое для добра, не верьте ему, наверное, он этим хотел защитить и свою самость или эгоистично перед кем-то выслужиться! Сколько раз приходится изумляться, насколько слабы законы, карающие клевету! В некоторых странах преследование клеветы даже почти невозможно. Можно убеждаться лишь в том, что не законами, карающими уже совершенную клевету, но именно предупреждающими мерами можно значительно ослабить эту вредную ехидну.
Лингвистические и юридические дефиниции клеветы и оскорбления совпадают в своей основной части – по общему признаку. «Клевета – порочащая кого – что-нибудь ложь» (195, 270). «Оскорбление – оскорбляющий поступок, оскорбляющие слова. Оскорбить – тяжело обидеть, крайне унизить» (195, 450).
Уголовный кодекс, в силу специфики, дает более расширенную трактовку этим понятиям.
«Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию».
По смыслу мало чем от юридической формулы клеветы отличаются значения слов «клевета» и «оскорбление» у В. Даля.
«Клевета – злоречие, злоязычие, злословие, напраслина, наговор, очернение, обнос, наносные речи, поклеп, наклеп, оговор, облыч, облычина. Клевета и самая ложь, что на кого налгано» (96, 115).
«Оскорблять (кого, чем) – обидеть, оговорить, опечалить, раздражить словом или делом; нападать на кого, судить кого неправо, кривосудом // Оскорбитель – обидчик, огорчитель, нападчик. Этот отзыв оскорбительный, неправый» (96, 115).
Здесь же уместно будет привести значение «клеветы», данное М. Фасмером: «Клевета – клевещу (цслав.); укр. – клевета, клеветати, ст.-слав. – клевета, болг. – клевета, сербохорв. – клевета, чеш. – kleveta (клевета, сплетня), слвц. – kleaeta. От клевать, клюю. Топоров считает, что найти этимологию этого слова в славянских языках невозможно, и поэтому сближает его с латинским calumnia – то же, calvor «обманываю» (273, 245).
В данном случае заведомость ложных сведений означает, что виновный видит, осознает, понимает несоответствие или вероятность несоответствия действительности сообщаемых им сведений о другом человеке устно или в средствах массовой информации. Для определения клеветы как преступного действия необходимо условие, чтобы ложные сведения были конкретными, т. е. должны содержать факты, поддающиеся проверке. Субъективная сторона клеветы, безусловно, выражается только в прямом умысле. Здесь же возникает необходимость устанавливать мотив в преступлении (месть, зависть, хулиганские или карьеристские соображения). Клевета отличается от оскорбления тем, что ее обязательным элементом является распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений о конкретных фактах, касающихся потерпевшего. В клевете, как результате работы изощренной мысли, наблюдается правдоподобие, возможность восприятия информации целиком, без анализа, ибо диффамация построена на конкретном факте. А оскорбление по сути своей есть выраженная в неприличной форме отрицательная оценка личности потерпевшего, имеющая обобщенный характер и унижающая его Честь и Достоинство. Для клеветы характерны глубина смысла ложной информации, на основе которой получивший ее сам выстраивает или достраивает симпатичную ему смысловую конструкцию, основываясь на своих симпатиях или антипатиях, знаниях об оклеветанном человеке, выносит окончательную оценку. Для оскорбления важен не глубинный смысл высказывания, а эффектная форма, яркость локутивных красок при написании образа потерпевшего.
При определении Чести выделяются два аспекта: объективный и субъективный. Честь – это общественная оценка общественного признания, заслуг поведения и безусловное стремление поддержать утвердившуюся оценку, свою репутацию. Субъективная сторона Чести связана со способностью оценивать свои поступки, регулировать интенции. Достоинство является внутренней оценкой личности. Личная сторона чести неразрывно связана с общественной, прямо обусловлена ею и подчиняется последней.
«Зоны риска» журналистского текста
Искажение реальности, описание события с изъятием в нем наиболее значимых, ключевых элементов события будет ложным или противопоставленным истинному.
Вторая языковая (текстовая) функция – оценка, т. е. выражение негативного, позитивного, нейтрального отношения к описываемой субстанции, отражение предпочтительности, равнозначности, равноценности. «В отличие от описания они не являются истинными или ложными, но могут быть глубокими или поверхностными, общепринятыми или нет, эффективными или нет и т. п.» (117, 25).
Оценка является номинацией отношения адресанта (автора) к той сущности, которую он описывает.
Оценка к тому же еще является базой при выборе средств языка, «язык опутывает мир паутиной интерпретации, создает систему символов, в которой каждому обозначаемому явлению придается целый ряд смыслов, имеющих разные и смешанные – качественные, регулятивные, экспрессивные и пр. назначения» (128, 298). А язык – это, прежде всего, тексты, которыми мы мыслим и говорим. И здесь следует иметь в виду, что тексты – это семантическое (смысловое) пространство, в котором соприкасаются, интерферируют (взаимодействуют) и иерархически самоорганизуются, перестраиваются и наслаиваются языки (тексты) адресанта и адресата, происходит процесс кодирования и декодирования текста. При порождении новых смыслов (декодировании) текст теряет свое первоначальное свойство пассивного знака передачи информации от адресанта к адресату. Зарождается новый текст с той же структурой, но уже с иными смысловыми носителями, с иным назначением.
Специфической чертой текста является его относительная самостоятельность. Ни одно событие, явление, объект невозможно описать абсолютно. Текст реально функционирует в ограниченном пространстве. Самостоятельный и самодостаточный для выполнения описательной функции, он может разворачиваться за счет своих самостоятельных составных частей.
Текст является целенаправленным. «В тексте реализуется определенная и единая по своей комплексности цель, и каждая его часть целенаправленна в составе целого (94, 97). Целенаправленность текста содержит в себе идее-образующую составляющую, которая включена в систему координат «я – здесь – сейчас» и «как должно быть».
Целостность газетного, журнального текста – это внутренняя организованность, структурность и оформленность, единство содержания и языковых средств. Под целостностью текста понимается, прежде всего, композиционная стройность, логические переходы между частями, связность этих переходов, соответствие номинативных единиц.
Текст содержит в себе ориентацию на «свою» и «чужую» аудиторию, имеющие «общую память», которая и помогает адекватному восприятию текста. «Общая память» любой аудитории – это номенклатура Концептов, используемых ею активно или пассивно. Каждый Концепт, как семантическая, знаковая формула, представляет собой свернутую в спираль систему коммуникативной цепи, на базе которой затем появляется новая цепь суждений и оценок. Мифологизированное сознание «чужой аудитории» будет отторгать языковые номинации, фактообразующую основу, суждения и оценки, данные в тексте.
При чтении текста читатель занят расшифровкой, семантизацией, декодированием знаков, определением значений языковых средств, запоминанием содержания. «Выделяют три основных типа внутренних текстовых структур: предметно-логическую, «плетеную» и свободную образно-ассоциативную. Предметно-логическую структуру имеют тексты научно-учебные, официально-деловые, общественно-деловые, информационно-аналитические. «Плетеную» структуру используют обычно в публицистике. Свободные образно-ассоциативные структуры характерны для художественных текстов и требуют, как правило, творческой одаренности и мастерства» (94, 97).
Своеобразие текста в том, что он создается от общего к частному, но воспринимается от частного к общему, исключительно потому, что адресант «перерабатывает» текст по его составным частям.
В содержании текста различают текстовое, затекстное и подтекстное содержание. Затекстное содержание присуще информационным и информационно-аналитическим текстам СМИ. Подтекст подводит адресата к мысли, что в тексте скрыт намек, то, что нужно выявить, декодировать. «Употребление слова «подтекст» показывает, что им обозначается не самостоятельно существующая вещь, а ее призрак, акциденция» (133, 41).
Подтекст референционно не прозрачен, он образ с психического образа события, каковым является текст. «Из анализа употребления слова подтекст можно сделать вывод, что обозначаемый признак относится к семантике высказывания, а не к его стилю» (133, 41). Стилевые особенности текста могут служить, особенно в материалах аналитических жанров, сигналами подтекста, сигналами активного выявления более глубокого смысла, при этом, «говоря о смысле, мы приходим к весьма сложной проблеме понимания» (133, 42). Отсюда весьма логично вытекает, что «термин подтекст оказывается всего лишь метафорическим обозначением того же понятия, которое обозначается термином смысл, внутренний смысл, имплицитное содержание, сигнификат» (133, 42).
Подтекст в подавляющем большинстве случаев является зоной конфликта языка и смысла, фактуальной базы и тех образов, которые рождаются при ее восприятии.
Неверная посылка в рассуждениях, как правило, приводит к ложному выводу. «Трактовка смысла и значения выражений зависит от метода семантического анализа» (237, 146). Нарушение логики рассуждений ведет к нарушению интерпретации, созданию нового подтекста, который базируется на ложном основании. Появляется «воображаемая логика», «законы которой детерминируются допущением противоречивых объектов. В такой логике не действует, например, традиционный закон несовместимости двух контрафакторных суждений. В противоположность этим законам собственно логики законы металогики, связанные с понятиями истины, ложности суждения и т. п., являются универсальными и неизменными. Так, одно и то же суждение не может быть одновременно истинным и ложным. Этот закон несовместимости истинности и ложности является универсальным законом» (237, 270–271).
Операция подмены тезиса – довольно частое явление в делах о защите чести и достоинства. Каждая сторона оперирует своими смыслами, пониманием и объяснением текста.
Для анализа текста наукой выработано достаточно много добротных методов, с помощью которых можно получить истинную оценку. Одним из наиболее предпочтительных в судебной практике методов может быть актуальное членение. «Под актуальным членением подразумевается такое членение предложения, которое существенно в данный момент речи. Оно противостоит формальному членению, поскольку имеет своей задачей не разложение предложения на его грамматические элементы, а выяснение «способа включения предложения в предметный контекст, на базе которого оно возникает» (260, 48). С точки зрения актуального членения предложение (высказывание) состоит из двух коммуникативных частей: 1) из «исходной точки (или основы) высказывания, то есть того, что является в данной ситуации известным или, по крайней мере, может быть легко понято и из чего исходит говорящий»; 2) из «ядра высказывания, то есть того, что говорящий сообщает об исходной точке высказывания» (260, 48). В основе данного метода лежит мысль, что исходным пунктом высказывания является то, что сообщается в предложении. Ядром является само сообщение. Попытка извлечь из всего информационного блока порочащие сведения абсурдна.
Для анализа текста эффективным может быть и другой метод – метод «семантического поля». «Задача семантического анализа сводится к тому, чтобы, во-первых, установить принадлежность слова к той или иной семантической системе и, во-вторых, выявить системообразующий, дифференцирующий фактор этой системы» (260, 58).
Принципы метода семантического поля были сформулированы немецким ученым Йостом Триром и сводятся к следующим моментам:
«... язык определенного периода – это устойчивая и относительно замкнутая система, в которой слова наделены смыслами не в изолированном виде, а постольку, поскольку ими наделены и другие слова, смежные с первыми.
Общая система языка складывается из двух соотносительных друг с другом типов полей: а) понятийных полей, подразделяемых на элементарные единицы – понятия, и б) словесных полей, также подразделяемых на элементарные единицы – слова.
Единицы словесных полей полностью покрывают соответствующие понятийные поля, создавая своеобразную мозаику.
Семантические поля связаны между собой по принципу иерархичности подчинения (более широкие и более узкие). С течением времени семантические поля меняют свою структуру, тем самым изменяется лексическая система языка в целом.
...язык трактуется не как отражение объективной действительности, а как мировоззрение, характеризующееся самодовлеющей ценностью и по-своему расчленяющее действительность.
Семантическое поле – это компактная часть словаря, покрывающая какую-то определенную «понятийную сферу» данного языка» (260, 59).
Все слова наделены понятиями, в тексте не вступают в конфронтационные отношения и «покрывают соответствующие понятийные поля». Вербальная номенклатура предложений не дает оснований предполагать конфликт поверхностной и глубинной структур предложений, конфликт языка и смысла. Но только при условии, что интерпретаторы текста не используют принцип «методологического анархизма» и не введут новые понятия.
«Коммуникация двучленна: она состоит из психологического субъекта – «субъекта, господствующего над другим», и психологического предиката – подчиненного представления. Иными словами, господствующее представление – это представление о предмете (субстанции), а подчиненное – это представление о признаке: «...термин господствующее представление указывает на то, что второе стоит к нему в зависимой или причинной связи; дело идет о действительном господстве, обусловленном самою природой первого представления, и о действительной зависимости, обусловленной природой второго представления» (260, 18).
При изменении психологической основы части предложения меняются, хоть и косвенно, остальные его части. Появляется новая схема понимания, новые стандарты, образцы восприятия. «Всякое слово, обозначающее объекты, достаточно тесно связанное с жизнью и деятельностью человека, сопряжено с определенным стандартом, или образцом, известным каждому употребляющему это слово. Языковые образцы функционируют почти автоматически, так что рассуждение, подводящее вещь или образец, скрадывается, и понимание его в свете образца кажется не результатом дедуктивного рассуждения, а неким внерефлексивным «схватыванием» (117, 249–250). Стандарты восприятия компаний, фирм, банков, силовых структур и так далее в настоящее время сформированы средствами массовой информации, которые занимались расследованиями махинаций, нарушений закона, вывозом капитала за рубеж. Стандартизированный образ стал понятием, выражением психологической коммуникации.
«М. С. Строгович пишет, что «достоверность – это то же самое, что истинность». Однако в литературе высказывается и другая точка зрения: «истинность характеризует объективное содержание знания, адекватность отражения им независимой от субъекта познания действительности; достоверность же – это еще и обоснованность этого знания, его доказанность» (287, 117).
Судебное исследование обстоятельств дела, газетного текста есть индуктивный процесс и, можно сказать, симметричный по степени исследования доказательств, а точнее аргументов (arqumentum (лат.) – логический довод, служащий основанием доказательства), представляемых суду сторонами. Для полноты исследования должно быть выполнено требование обоснованности знания или принцип достаточного основания. Здесь нужно принимать во внимание, что многие аргументы в суде выступают как вероятности событий. «Важно иметь в виду, что вероятность, руководствуясь которой суд выносит приговор (в гражданском процессе решение. – Авт.), должна быть не максимально возможной, а максимально необходимой для внутреннего убеждения в чем-либо (в фактическом обстоятельстве, в виновности и пр.). Если имеет место вероятность, максимально возможная в данном судебном разбирательстве при данных средствах получения сведений, и она не является одновременно необходимой для формирования внутреннего убеждения в реальности факта (или в отсутствии его), то, естественно, требовать от судьи вынесения приговора (решения. – Авт.), руководствуясь только максимально возможной вероятностью, нельзя. Ибо именно в этом случае и будут иметь место судебные ошибки, основанные на объективной недостаточности данных, ведущей к неправильному формированию внутреннего убеждения, а по сути, к отсутствию такового» (287, 118).
Важная «зона риска» журналистского текста есть «зона отражения» события, т. е. выбора позиции автора по отношению к персонажу. Событие, явление может быть описано предельно точно или достаточно близко к предельной точности, соблюдены классические признаки: единство времени, места, действия, но отражение события, точнее его психического образа, идет с позиции, порождающей конфликт восприятия.
В принципе почти любой газетный текст может быть оспорен в суде. Здесь все зависит от позиции истца, его видения смысла, которым наделен текст. Описание события, максимально приближенное к самому событию, есть одна из возможностей избежать судебных притязаний. Следует придерживаться в подготовке текста «принципа кооперативности».
«Этот принцип реализуется в нескольких постулатах или максимах:
1. Первая максима количества: твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется.
2. Вторая максима количества: твое высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется.
3. Первая максима качества: стараться, чтобы твое высказывание было истинным.
4. Вторая максима качества, развивающая первую: не говори того, что ты считаешь ложным.
5. Третья максима качества, тоже развивающая первую: не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований (или, пользуясь нашей терминологией, не используй недостоверных фактов).
6. Максима релевентности: не отклоняйся от дела (сути дела).
7. Первая (общая) максима прозрачности: выражаться ясно. Из нее следуют еще четыре:
8. Избегай непонятных выражений.
9. Избегай неоднозначности. (В некоторых случаях именно неоднозначность помогает выиграть дело в суде. – Авт.)
10. Избегай ненужного многословия.
11. Организуй свое сообщение» (204, 61).
Безусловно, что эти максимы не носят абсолютного характера, но помочь минимизировать «удары» истца они могут.
Субстанция события
Факт – это истинное суждение о событии, процессе, явлении. Событие состоит из нескольких составляющих, которые при описании тоже должны быть истинными. Одна из распространенных ошибок журналистов – это оценивание одной из составляющих события с оппозиционной точки зрения, что ведет к смысловым искривлениям общего направления смысла текста. У события своя внутренняя структура. Событие, процесс – это еще и индивидуальный объект в мире событий. «Индивидуальный объект (событие, процесс) является представителем абстрактного объекта. Этот последний, в свою очередь, обобщает свойства и признаки различных индивидуальных объектов: это то, над чем мы можем осуществлять те или иные логические операции» (147, 7).
Текст не обязательно должен быть всегда «открытым». Для того, чтобы выполнить эту функцию описания процесса, события, журналисту не хватит жизни.
Любое отдельное высказывание о событии, поскольку оно субъективно, не может быть полным реальным фактом, поскольку угол обзора события всегда ограничен местом обозревателя или участника события. Даже видимая полнота описания не дает возможности дать полное истинное суждение, так как суждение, оценка – это уже персонифицированное видение. К тому же оценка является «принуждающим» средством аргументации, основанном в большинстве случаев на стереотипе как упрощенном, заранее принятом представлении. Особенно это касается журналистских текстов, так как любые сведения могут стать фактом только после верификации (проверки на истинность). Но даже после верификации высказывание может иметь погрешности в истинности описания, оценивания события по той причине, что вырвано из общего событийного поля и получило субъективную окраску, став информационным событием. Здесь-то и кроется опасность конфликта восприятия. Тексты обладают смысловой многомерностью, линейная последовательность изложения событий пересекается траекториями внутренних «текстуальных событий». По мнению Ж. Дерида, «расходящиеся «во все стороны» от любого слова, выражения цепочки отсылающих друг к другу смыслоразличительных, смыслонесущих элементов, демонстрируют реальное существование непрерывной, расширяющейся сети, образуемой этими элементами. Каждый из элементов обладает своей структурой, «историей», и представляет собой новый, расширяющийся текст. Словом, изначальный текст есть основа бесконечного текста, так же как бесконечный текст есть среда, порождающая изначальный текст, одновременно «сжатая» до минимальных границ изначального текста. Конечная информация содержит в себе бесконечную.
Нельзя не согласиться с А. А. Леонтьевым, что «тексты функционально неравноценны с точки зрения способов их понимания, но даже такой статический, точечный образ есть лишь частный случай развернутого, динамического образа» (147, 142).
«Открытая» информация о событии, объекте содержит в себе имплицитную (скрытую). Но возможна и «пресуппозитивная» или «затекстовая» форма, когда с обоюдного согласия адресанта и адресата считается, что эти сведения известны. Поэтому информация, как исходный продукт, результат описания события, является фрагментарной в силу ряда причин. К примеру, если речь идет о публичном политике, то сведения о его биографии, программе, взаимоотношениях с другими политиками и т. д. не нужны, важна информация о том событии, которое с ним произошло.
Фамилия политика уже в определенной мере является информацией, репрезентирующей все предшествующие сведения о нем. Пресупозитивная форма дает возможность экономить время и место и активизирует работу ума, и, как писал Лейбниц, «наилучший способ работы ума состоит в том, что он может открывать для себя немногие мысли, из которых по порядку проистекает бесконечное множество других мыслей точно так же, как из нескольких чисел... можно вывести по порядку все остальные» (301, 13).
«Индивидуальный объект» заполнен репрезентантами других объектов (событий, процессов), ставших в свою очередь представителями абстрактных объектов. Журналист, описывая объект (событие), описывает не событие как таковое, препарируя его на составные, по времени и месту, а психический образ события, вводя при этом свое отношение к событию, если не через открытые оценки, то стилистически оформляя текст и используя фоновые знания своих читателей (слушателей, зрителей).
В процессе описания (избежать практически невозможно) могут возникать намеренные или ненамеренные деформации, природа происхождения которых была описана еще в XVII в. Фрэнсисом Бэконом в его книге «Новый Органон» («Novum Organum»). Бэкон пишет о видах «призраков», которых насчитывает четыре. «Призраки» или idola означает буквально «образы» как истинные, так и искаженные. Idola происходит от древнегреческого слова «эйдолон» (у древних греков обозначало «тень умершего»). Ф. Бэкон творчески объединил философское трактование термина «идол» с религиозным (теологическим), в результате чего возникло новое значение термина как искажающего призрака, вносящего деформации в систему познания.
Важным источником «идолов» является «чувственная структура человеческой природы... сетка межлюдских отношений: некоторые «призраки» возникают вследствие «взаимной связанности и сообщества людей» (188, 27–28). Учение о «призраках» суммировало итоги многочисленных эмпирических наблюдений Бэкона из области социальной психологии.
Первый вид «заблуждений» – это «призраки рода (idola tribus)». Они свойственны всему человеческому роду, поскольку люди примешивают к природе познаваемых вещей природу собственного духа. Большинство людей склонны сохранять свою веру в то, к чему они успели привыкнуть и что легче для усвоения, а также кажется выгодным и предпочтительным» (188, 28–29). Вера, доверие, неверие к информации в тексте имеют свою основу в idola tribus, что достаточно успешно эксплуатируется в системе «паблик ри-лейшнз», выборных технологиях. Читатель (зритель, слушатель) «в обоих случаях – и когда они проявляют свою консервативность, и когда высказывают свое легковерие – ...верят в свою непогрешимость и всерьез убеждены в том, что их мнение суть мера всех вещей» (188, 29).
Получение информации в оформленном виде (т. е. тексте) вызывает к жизни восприятие текста, которое «подчиняется общим закономерностям восприятия, и образ содержания текста есть тоже предметный образ. Его предметность – особого рода, но принцип остается незыблемым: мы оперируем с самого начала с тем, что стоит за текстом» (147, 142).
С процедурой восприятия связаны многочисленные погрешности толкования текста, поскольку адресат свое мнение считает «мерой всех вещей». «С этим соединены такие недостатки человеческой психологии, как истолкование новых идей в духе прежних, уже устаревших представлений, интерпретация «текучего» в виде «постоянного» (188, 29).
Современная журналистика – область пограничная, которая впитала, а точнее включает в себя философию, психологию, социологию и пр. И то, что было отмечено еще Ф. Бэконом, находит отражение и сегодня. «Одним из проявлений «призраков рода» является склонность людей более поддаваться влиянию положительных, чем отрицательных фактов (примеров, инстанций). Отсутствие чего-либо менее впечатляет, чем его наличие, а подтверждение прежних взглядов на вещи воспринимается с удовольствием, чего нельзя сказать об опровержении их фактами. ...он постоянно указывает на взаимодействие ощущений, эмоций и рассудка» (188, 29). Деятельности журналиста присущи недостатки субъективных моментов человеческого познания. Одни из них – психологического и логического, а другие – идеологического свойства. «Суть феноменов культуры (журналистика действует в сфере человеческой культуры, мира. – Авт.) состоит в том, что они имеют значение для людей; а то, что имеет для людей значение, постепенно обращается в знак» (36, 28). Иначе говоря, мы живем в мире знаков и оперируем знаками. Взаимодействие между людьми носит характер коммуникативный. «Почему человек сообщает? Именно потому, что он не в состоянии охватить все единым взглядом» (301, 14).
«Недостаточность познавательных способностей и превращает коммуникацию в чередование того, что мы знаем, с тем, что мы не знаем» (301, 15). Коммуникация компенсирует незнание, ориентирует людей в мире событий, явлений, процессов, формирует сознание.
Радикальная психология придает особое значение дифференциации трех видов сознания: прецедентного, интердективного и юстициального. Прецедентное сознание (возможное, первичное) основано на принципе осознанного подобия поступков; кажется возможным совершить такой же поступок, поскольку его уже совершил другой. Интердективное сознание базируется на воспрещении тех или иных поступков как таковых (десять заповедей почти целиком строятся на воспрещениях) ...юстициальное сознание строится на понимании (чаще всего смутном) того, что один поступок справедлив и верен, а другой – неверен и несправедлив. Неоспоримо, что социальные условия служат базисом формирования этих неоднозначных видов сознания, которым соответствуют отношения между людьми и их поступки (36, 33).
Второй вид заблуждений, по Ф. Бэкону: «призраки пещеры» (idola specus). Сам термин ведет свое происхождение от учения Платона, в котором сознание человека представлено в виде неровной стены пещеры, на которую падают лучи солнца из реального мира. Люди же наблюдают тусклые отблески, тени происходящего вне «пещеры», т. е. мира людей, событий. «Призраки пещеры» – это заблуждения, свойственные разным индивидуумам, и возникают они не только непосредственно от природы, но и «от воспитания и бесед с другими. Неодинаковые интересы людей ориентируют различным образом их познавательные усилия и оценки. Они вносят из излюбленной ими сферы исследований в другие области знания закономерности, присущие этой сфере, хотя в действительности иным областям не свойственные».
Очень близко к коммуникации, журналистике стоят «призраки рынка» (idola fori), или «рыночной площади», которые вытекают из присущих социальной жизни особенностей. «Эти «призраки» состоят в подверженности общераспространенным взглядам, предрассудкам и умственным заблуждениям, которые появляются от дезориентирующего воздействия словесной путаницы» (188, 30–31). Бэкон обращает внимание на двузначность терминов, неразборчивость в выборе исходных понятий и суждений, ложность посылок, разрушающих истинность выводов. «Критика Бэконом «призраков рынка» звучит в наш век не менее свежо и актуально, чем в свое время. Ведь эта критика направлена против искажающего воздействия семантики естественных и теоретических языков на мышление и познание. Такое воздействие становится реальностью тогда, когда язык взаимодействует с ложно направленной мыслью, с шаблонами консервативной или же мнимо «прогрессивной» идеологии. ...Языку присуща относительная самостоятельность, которая состоит в наличии как некоторой консервативности языка применительно к мышлению, так и способности его активно влиять на последнее. Язык, его семантика и синтаксис не являются каким-то пассивным отражением мышления, а тем более объективной реальности, хотя неверно и наоборот – видеть в языке диктатора, произвольно манипулирующего мыслями и искажающего их» (188, 32).
Оперировать в системе коммуникации знаками, символами подразумевает кодирование и декодирование информации о событии. «Код, следовательно, предполагает наличие репертуара символов, и некоторые из них будут соотноситься с определенными явлениями, в то время как прочие до поры до времени останутся незадействованными, незначащими (хотя они и могут заявлять о себе в виде шума), но готовыми означить любые сообщения, которые нам покажутся достойными передачи» (301, 37).
Последний, четвертый, вид заблуждений – это «призраки театра» (idola theatri), которые производны от «призраков рынка». «Здесь речь идет об искажающем воздействии ложных теорий и философских учений. Они мешают открытию истины, заслоняют глаза, как катаракты. Истоки широкого влияния, которым пользуются ложные учения философов, находятся, согласно Бэкону, в «суеверии», то есть в подверженности предрассудкам и общем легковерии, в некритическом доверии к своим ощущениям и в беззащитности перед лицом софистики..., слепое преклонение перед ранее установленными и признанными авторитетами, которые, подобно актерам в театре, подчинили себе умы слушателей и читателей, истребив из их сознания всякое сомнение в своей правоте, сомнение, которое в действительности более чем обоснованно, ибо эти авторитеты ложны» (188, 33). «Истина – дочь времени, а не авторитета», – говорил Ф. Бэкон.
Описание события, объекта может быть истинным или ложным. Истинным с позиций описывающего, т. е. журналиста, который, воплощая свой сценарий, упустил фрагменты или выстроил собственную композицию явления, но таким образом, что реципиент получает иной образ события. Теряется возможность правильного понимания события. «Когда исследуют понимание, возникает необходимость условиться, что существуют три мира. В одном мире: «Что доказано, то и есть». Это мир логических построений, мир связных суждений и умозаключений, математических моделей, аксиоматических методов. В другом мире: «Что есть, то и доказано». Это мир фактов, обладающих достоинством непосредственной действительности» (36, 15).
Познание события подразумевает изучение причин, «сценария» события, которое включает: «субъект, средства, объект, время, обстоятельства или условия, причину, цель результат» (204, 51). Событие в журналистике – это само событие, как явление, и текст, как объект, который живет между двумя мирами, и как следствие «...разграничительная линия между этими двумя мирами – «что доказано, то и есть», «что есть, то и доказано» – становится особенно тонкой, напряженной, подвижной, когда общество (или природный фокус всех общественных отношений – человек) начинает требовать доказательств. События произошли. Фрагментарность фактического мира становится зловещей: фрагменты обращаются в фундамент версии и обретают наименование вещественных доказательств. За дело берется специалист по решению неточных задач – следователь. В мире суждений возникает гипотеза о возможной ситуации, выстраивается версия» (36, 18).
Специалистами по решению неточных задач являются в определенной мере истцы и судьи, впрочем, и ответчики тоже. Истцы эксплуатируют «зоны риска» журналистского текста, извлекают из него выгодные для себя фрагменты и из мозаики фрагментов создают новый текст, имеющий иную семантическую нагрузку.
Примером такой языковой манипуляции может служить гражданское дело в Октябрьском суде г. Новороссийска по иску П. Газета «Вечерний Новороссийск» опубликовала статью «Кому служат роскошные покои стоимостью 2,5 млн руб.?», основанную на добротной документальной базе. В основу статьи легло событие – покупка в г. Москве представительской квартиры администрации г. Новороссийска. (Событие происходило в последние годы двадцатого века. – Авт.) Покупка квартиры по доверенности была поручена чиновнику администрации Икс.
Первый факт – доверенность – соответствовал действительности. Текст доверенности цитировался в публикации. Этот же текст затем интерпретировался автором публикации следующим образом: «И хотелось бы знать, кого это наш мэр направил нашим же представителем в Москву, Лондон или Геленджик. Выходит, что в течение трех лет (а именно на этот срок выдана доверенность) нашу судьбу на земном шаре решает некто И. И., а мы, выходит, и знать этого не знаем». Данное рассуждение имело под собой основу, т. к. в доверенности было сказано, что П. представляет интересы администрации города в СНГ и за рубежом.
Истец переориентирует смыслы в свою пользу: «В этой публикации ответчики ...умышленно искажают суть дела по выдаче доверенности на мое имя, где оскорбительно и тенденциозно, на фоне публикации моей фотографии, вмонтированной в окно третьего этажа дома в Москве, крупным шрифтом публикуют следующее: «Наше представительское окно, за которым представительская квартира, а в ней наш главный представитель в Москве господин Икс». Фотографический облик «господина Икс» не был искажен, дом, квартира, окно соответствовали действительности. Текст, построенный на достоверности, получил иное понимание, а событие – иное отражение. «Понимание плюрально, оно существует во множестве вариантов, каждый из которых отражает ту или иную грань объективной действительности. В понимании находят выражение связь индивидуального существования с общезначимыми фактами» (36, 22). Публикация фотографии на фоне дома вызвала у истца реакцию понимания, что его «образ» не дан традиционно-уважительно, к чему привыкли чиновники его ранга, а с элементами шаржирования, что вызвало рождение оппозиционной чувственной информации. Как справедливо замечает Томас Гоббс «воображение (imaginatio) означает соответственно не иллюзорный плод произвольного духовного творчества, а образ памяти, т. е. несколько «потрепанный временем» и потому ослабленный, тем не менее достоверный след прошлого ощущения» (188, 148).
Одним из первых Т. Гоббс разрабатывал учение об ассоциативных связях в мышлении. «На основе общего тезиса о том, что мысль «может переходить от одной вещи к другой», он наметил классификацию случаев сцепления образов сознания друг с другом, т. е. типов «переходов мысли» (188, 151).
Концептуальной идеей для журналистики можно считать учение Гоббса о знаках. Процесс познания причин – смысл коммуникативной деятельности. «Прежде всего, следует «удостовериться в нашем собственном незнании», дабы очистить почву познавательной деятельности от неверных понятий, вызванных употреблением дезориентирующих слов. Язык – великое средство познания, но именно он является источником лжи и ошибок» (188, 148). В семиотической типологии Гоббса нас будут интересовать не все знаки, а лишь те, которые имеют непосредственное отношение к журналистике. Среди разных типов знаков особо выделяются знаки в роли меток, которые действуя в общей системе коммуникации, затем используются для личного употребления, подтверждая зависимость между общественным и индивидуальным.
Знаки знаков – это универсалии, имена имен. «Для обозначения совокупности похожих друг на друга частных и единичных предметов, чтобы легче было их все запомнить и ими оперировать, употребляют знаки знаков, но нельзя забывать, что связываемые со знаками знаков общие представления сами по себе – это лишь призраки» (188, 152).
Фотография чиновника в окне представительской квартиры из судебного дела, о котором мы говорили выше, есть знак знаков, где, кроме номинализации, присутствует метаязыковое прочтение этого фрагмента текста. Присутствует не простое суммирование представлений, а сочетание, соединение их в определенной конструкции. Определения, которыми мы наделяем представления, фиксируют лишь условно принятые нами значения слов. В истолковании значений общих слов Гоббс, вследствие своего номинализма, склонялся к так называемой репрезентативной теории абстрагирования, автором которой считают Д. Беркли. Согласно этой теории, общее как бы концентрируется в единичном, являющемся репрезентантом (представителем) всех других единичных предметов, объемлемых данным генерализующим термином.
Термин «чиновник» включает в себя как положительную номинализацию «государственный человек», так и негативную – «бюрократ», «бездушный человек». Вторая преобладает в общественном сознании, в котором «бездушный человек» и «чиновник» – синонимы.
Поэтому чиновник Икс, суммировав все, что сказано о его деяниях, излагает свой вывод – представление, что о нем «сказано плохо».
Дабы подкрепить свое убеждение, он выбирает из текста следующие предложения: «Но Иксу мало обескровить городской бюджет покупкой квартиры, дорогим ремонтом, ему еще надо обставить представительское логово», «Любимцев надо содержать. И В. Г. утверждает смету на содержание представительства в сумме 2,5 млн рублей. Что это? Грабеж, разбой, уничтожение городских фондов?» И текст, имевший по замыслу автора конструкцию: описание события и оценку – городские деньги нужно тратить на нужды города, – получает иную интерпретацию, представленную истцом для суда – обо мне как о личности «поведали в газете гадости». Подтверждением этому может служить ключевая фраза в тексте искового заявления: «более трех лет ответчики не унимаются в своих «разоблачениях» сугубо на почве личных неприязненных отношений». Оказалось, что не событие, связанное с покупкой квартиры, бездумной тратой огромных денежных средств, лежит в основе публикации, а «личные неприязненные отношения».
Понимание события плюрально, и в журналистике эта истина регулярно подтверждается. «Когнитивная функция понимания именно и заключается в том, чтобы обрести определенное знание о действительности и применить его; в результате понимания знание становится частью внутреннего мира личности и влияет на регуляцию ее деятельности» (36, 26).
Понимание события, т. е. самого текста, и события, которое произошло и было описано в тексте статьи «Кому служат роскошные покои за 2,5 млн руб.?», получило новое отражение в судебном решении.
«Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему:
«Исследуя содержание статьи, суд считает, что указанная статья содержит сведения, не соответствующие действительности, в которых содержатся утверждения о совершенных Икс нарушениях действующего законодательства и моральных принципов. А именно. На вопрос, поставленный автором «Кто вы, г-н Икс?», сам же автор и отвечает, «...что г-н Икс для большинства горожан фигура одиозная...» (здесь опущено, что это данные опроса горожан. – Авт.). Что значит быть «одиозной фигурой» (личностью)? В словаре С. И. Ожегова указано: «одиозный» – вызывающей крайне отрицательное отношение к себе, крайне неприятный. (Вспомним гоббсовскую типологию «знаки в роли меток», «знаки знаков». – Авт.) Ответчики в судебном заседании не представили доказательств, свидетельствующих о том, что Икс вызывает к себе крайне отрицательное отношение. (Прилагательные «отрицательный», «неприятный», усиленные наречием «крайне», взятые из словаря С. И. Ожегова, в процессе мыслительной деятельности судьи отразили воображение его о том, что Икс крайне «знаковая фигура», и imaginatio (воображение) зиждется на почве абстрактного знака «отрицательное». Таким образом, личность г-на Икс, совершившего конкретный поступок, отводится в сторону вместе с деянием, а освободившееся место занимает дефиниция «крайне неприятный», она подвергается рассмотрению и судебной оценке. – Авт.). Об этом нет ни письменных документов, ни свидетельских показаний. (Здесь проявились погрешности формальной логики. – Авт.) Далее по тексту указано, что истец известен «... по густому облаку негатива». Однако в судебном заседании ответчики указали лишь на то обстоятельство, что в отношении Икс была проверка правоохранительными органами, которая окончилась прекращением уголовного дела. Что по последствиям нельзя считать негативом. (В материалах уголовного дела подтвердились все сведения о покупке квартиры, изложенные в статье. – Авт.) Далее по тексту. Подзаголовок «Серый кардинал?». Поскольку стоит знак вопроса, нельзя говорить о том, что это сведения, однако первое предложение гласит: «И я не голословен в этом своем заявлении». Следовательно, автор статьи утверждает, что Икс является «серым кардиналом». «Серый кардинал», как известно, это человек, влияющий на лицо власть предержащее в угоду своим интересам. Можно ли утверждать, что выдача доверенности главой города является бесспорным доказательством того, что он влияет на главу в угоду своим интересам и влияет ли вообще. Таких доказательств ответчики суду не представили. Не соответствуют действительности и сведения о том, что «...наш всенародноизбранный В. Г. некоего И. Г. назначает нашим наместником на территории РФ, за рубежом и в городе-герое Москве». Таких сведений выданная доверенность не содержит, и соответственно ответчики в суде не смогли доказать, что данные сведения соответствуют действительности. (В тексте доверенности сказано, что г-н Икс является представителем администрации в России, СНГ, за рубежом. Комментирование этой фразы в статье получило оформление с помощью языковых средств газетного стиля, а не канцелярского. Смысл не был изменен. Искусственно изменены ориентиры. – Авт.)
Далее по тексту: «Виртуоз Икс сдает отчет о закупленных окнах на сумму 20 млн руб. у фирмы...». При проверке фирма наотрез отказалась от заказчика. Доказать же, что данные сведения соответствуют действительности, ответчики в суде не смогли. (В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела эти сведения были подтверждены, но суд сослался на то, что был отказ и было постановление о прекращении уголовного дела. Следовательно, все материалы из уголовного дела не являются доказательной базой. Опять погрешности силлогизма с ложной посылкой: «если А (дело прекращено), то В (деяний вообще не существовало). – Авт.) Далее по тексту автор высказывает предположение: «Если это любовь..., то козлы, конечно, мы. Козлы нелюбимые, безрогие..., которых доят, плохо пасут и пользуют по полной козлиной программе». А истец же: «Пока суд да дело... слушает да ест. Ест, правда, наше с вами. Не давится, со своими делится». Из текста следует, что у истца с главой города любовь, а мы, все остальные – козлы, которых пользуют по полной козлиной программе. А в это время истец ест наше с вами, не давится, со своими делится. Эти сведения, безусловно, являются не соответствующими действительности. (Суд вводит категорию «безусловности» для овеществления метафоры, эмплицирует (развертывает) фоновые знания с целью порождения нового смысла, который переводит в категорию «сведений», что недопустимо с точки зрения логики. – Авт.)
Итак, текст решения суда – это четвертый текст описания события (1-й – статья, 2-й – исковое заявление, 3-й – протокол, т. е. тексты речей, произнесенных в суде). Второй текст (исковое заявление) с помощью суда был существенно расширен, получил иные смыслосодержащие направляющие, стал самостоятельным. Суд, говоря о сведениях, не соответствующих действительности, так и не выделил, какие же именно сведения не соответствуют действительности и каков должен быть текст их опровержения. Собственно говоря, использование такой тактики присуще российским судам в тех случаях, когда овеществленно реализуются смутные впечатления истца. Они обязывают газеты публиковать решения суда, эксплуатируя при этом фоновые знания читателей, которые делают вывод, что в целом статья опорочила истца.
Событие, подвергающееся анализу, исследованию в журналистской деятельности, имеет и этическую основу, поскольку находится в системе, поле оппозиций. «В поле 1 решающую силу имеет противопоставление: есть на самом деле – нет на самом деле; в поле 2: истинно – неистинно; в поле 3: хорошо – плохо, а также все модификации этого противопоставления. Мир, представленный в поле 1, – это мир отношений между предметами; в поле 2 – отношений между понятиями; в поле 3 – отношений между людьми (36, 22).
Журналистика – сфера коммуникативной деятельности и использует не только информацию как меру организации. «Под информацией <...> понимается вся совокупность данных, фактов, сведений о физическом мире, вся сумма знаний – результат познавательной деятельности человека, которая в том или ином виде используется обществом в различных целях» (191, 240). Кроме «всей суммы знаний» журналистика оперирует стандартами, стереотипами, символами, которые – «плод деятельности духа». Символы приходят к человеку в момент творчества, в момент озарения.
Очень интересна у Флоренского попытка анализа такого символического явления, как слово. Он подчеркивает: слово – человеческая энергия и рода человеческого, и отдельного лица. Под словом надо разуметь всякое самодеятельное проявление нашего существа вовне (50, 101). Слово – основа коммуникации, и оно имеет индивидуальный смысл, оно звучит по-своему в каждом человеке. Слово – характеристика человека. «Флоренский указывает, что слово есть признак «конституитивный», так как без него человек не может раскрыться. Слово выступает той духовной энергией, с помощью которой человек раскрывает себя для других, раскрывает себя в слове, обнаруживая свою сущность».
Слово может быть характеристикой человеческой деятельности. Слово – не только символ, оно и знак. В этом смысле оно служит средством раскрытия, выражения, самореализации человека» (50, 101).
Слово имеет двуединую природу: является субъектом и объектом, основой текста, отражает стремление к знаковой упорядоченности.
«Люди окружены знаками с детских лет и до завершения жизненного пути. Сфера их возможного воздействия на людей называется силовым полем знаков.
Различают два типа силового поля знаков – локальные и генерализованные. Локальное силовое поле создается в данных конкретных точках пространства с тем, чтобы стабилизировать коммуникативную ситуацию в соответствии с эталоном (лозунги, вывески, знаки уличного движения). Генерализованное силовое поле создается в результате работы центральной направляющей системы. Радио, телевидение, пресса – все они суть средства генерализованного силового поля» (36, 99). Газетные тексты имеют генерализующий характер и относятся к повествовательному миру и как «...тексты повествовательного мира обладают значительно большим трансляционным потенциалом, они лучше запоминаются и поддаются пересказу, нежели гораздо более компактные, последовательные и связные тексты мира доказательных суждений» (36, 21).
Локальное силовое поле знаков присуще текстам права. «Отсюда – семантический аспект права, в частности законотворческой деятельности, герменевтический, сводящий понимание права к толкованию его словесных конструкций. И здесь, как в искусственной символической реальности, язык приобретает тенденцию вытеснять содержание.
В правовой реальности это проявляется в том, что и в правотворческой и в правоприменительной деятельности наблюдается увеличение количества нормативных документов и формальный подход к их исполнению. Более того, в центре внимания законодателя по-прежнему находятся не интересы гражданина, а забота о системообразующих нормативах. Это нормативы не защиты человека, а защиты сложившегося порядка вещей, или оптимизации самого этого порядка. Внутри же процесса нормотворчества действует своя внутренняя логика, связанная с процессом увеличения круга «означиваемых» явлений и соответственно множественностью смыслов и толкований» (50, 102).
Язык сам по себе является мощнейшей символической субстанцией. Символы разворачиваются в семантическое полотно: ...в повествовательных текстах смысловые связи организованы по принципу усиления. Одно событие не только влечет за собой другое, но и выявляет свернутые в нем возможности. Они бы и не выявлялись никогда в другой ситуации. Но здесь они становятся предметом изображения (36, 25).
Логика и динамика эмоций в тексте
Журналист – производитель текста – в системе коммуникаций выступает в трех лицах: а) аниматора (от лат. anima – жизнь, душа, animator – дающий жизнь) – того, кто произносит, озвучивает высказывание; б) автора – того, кто порождает высказывание; в) принципала (от лат. principalis – главный, глава, хозяин) – того, чья позиция выражена в высказывании, кто определяет ориентиры восприятия высказывания.
В основе информации лежат сообщения о процессах, явлениях, событиях, которые, будучи верифицированы, становятся фактами, их комментарии или оценки. Соединясь при анализе или комментировании, несколько событий могут порождать новые события и новые оценки.
Одной из характерных черт дискурса является категория информационного поля, т. е. пространства, охватывающего, а точнее включающего в себя многообразие событий, причинно-следственных связей, отношение к этим событиям (реальным фактам), идеи, вызвавшие к жизни события. «Информационное поле – категория аксиологическая, она связана с понятием информационной нормы; в идеале СМИ должны сообщать о всех возможных фрагментах действительности. На деле объем информационного поля всегда ограничен. Эти ограничения могут носить институционализированный (запрет на разглашение государственных тайн) или конвенциональный (например, следование этическим нормам) характер. Запреты иного рода должны расцениваться как факт дефектной коммуникации (134, 257).
Информационное поле включает в себя также и объем опыта, хранящегося в памяти. Хаос событий, происходящих в реальной жизни, в коммуникации выстраивается в сложную, но понимаемую конструкцию, единое целое в соответствии с жанровыми стандартами. Любое событие, как «вещь в себе», пока оно не нашло себе места в субъективной картине мира реципиента, не получило согласования с объемом опыта, бессмысленно по своему дискурсивному статусу. «Его (события. – Авт.) действующие лица – индивидуальные актеры; оно репрезентирует хаос окружающего, которое еще не упорядочено смыслополагающей деятельностью индивида, которое внеконтекстуально, и его релевантность порой с трудом поддается оценке...» (99, 60).
Система коммуникации в этом случае должна быть адаптирована к окружающей среде и использовать «принцип максимума взаимной информации между условиями сферы и свойствами или реакциями системы» (95, 140).
Процесс коммуникации предусматривает, во всяком случае, должен предусматривать и учитывать когнитивные ресурсы аудитории, «обрисовать <...> контексты, связать центральное событие с другими, периферийными, показать их релевантность той ситуации, в которой находится зритель (читатель. – Авт.), т. е. в конечном счете вложить в это событие готовый смысл. Неизбежно возникающий при этом на стадии разработки субъективизм оценок и мнений <...> должен быть – в силу требований жанра и индустрии – риторически нейтрализован. В сущности, новостной текст должен функционировать в режиме атонального коммуникативного акта, воспроизводя три его фазы – презентацию мнения как достоверного, но неверифицируемого знания с последующим пробросом последнего в сферу убеждений реципиента» (293, 60).
Убеждение всегда отягощено, связано с оценкой, родившейся благодаря эмоциональному восприятию события, сообщения о событии. «Эмоции являются инструментом оптимального управления поведением, они играют роль обобщенных сил, направляющих субъекта к скорейшему достижению максимума его целевой функции Z. Роль такой целевой функции играет <...> взаимная информация между реакциями субъекта и свойствами его окружения» (95, 141).
Первопричина эмоций или эмоционального состояния заключается в позиции, на которой стоят адресант и адресат. В СМИ субъект-коммуникатор не просто функционален, он реализует себя как личность через текст, насыщает его особенностями своего менталитета, активно стремится к самовыражению. Нередко чрезмерный субъективизм автора виден в тексте, когда говорится не о событии, а об авторе в событии, для которого последнее является фоном.
Эмоциональное состояние или эмоциональные оценки в текстах СМИ определяются идеологическими, социальными факторами, призваны решать с помощью языковых средств задачи пропаганды и агитации, эффективно воздействовать на массовую аудиторию. Алгебра эмоций, по мнению Г. А. Голицина, реализуется в нашем мозгу в аналоговой форме с помощью структур, которые есть не что иное, как сеть причинных связей. Люди в системе коммуникации обмениваются информацией, мыслями, чувствами, отношениями. И в этой системе взаимообмена складывается совокупность оценок. «Если уже в основе оценок материальных благ лежат эмоции, то тем более это верно для благ нематериальных, для эфемерности которых нет иной, более прочной опоры, помимо эмоций» (95, 144).
Для любого текста характерна оппозиция отношений субъект-объект. И субъект и объект в зависимости от коммуникативной задачи, которую решает текст, могут быть активно или пассивно выражены. «Субъект – это оценивающая инстанция, обладающая целевой функцией, объект – оцениваемое. Но в силу рефлексивности понятия оценки она может обращаться на самого субъекта, субъект может становиться объектом оценки. И тогда сама его оценка тоже становится объектом новой оценки. Что формально и выражается в виде перемножения оценок» (95, 145–146).
В практике журналистики цепочка эмоций может быть сокращена до минимума, т. е. исходная информационная единица подается читателю (зрителю) исключительно как «голый» факт, обработанный лексически нейтрально. Однако такая подача есть тоже оценка отношения к факту – событию, и адресат оценивает его, руководствуясь собственными эмоциональными оценками. «В принципе же наращивание оценочных звеньев может продолжаться до бесконечности» (95, 146).
Эмотивная функция текста связана с номенклатурой эмоций, которая выражает отношение субъекта к объекту, субъекта к субъекту. Число возможных значений оценок или оценки возрастает, при этом язык более тонко и изощренно дифференцирует отрицательные эмоции и в гораздо меньшей степени положительные. Эмоциональные состояния могут иметь иногда несколько наименований.
В системе оценок, а это, как правило, критическая публикация, автор через какие-то действия, поступки, совершенные объектом, оценивает его и как личность – прямо или опосредованно.
Одно из распространенных явлений в журналистике – это:
а) игнорирование факта ограниченности пропускной способности сознания человека;.
б) игнорирование факторов реакции на информацию потребителей информации, при которой информация уточняется, развертывается, формируется, интерпретируется, оценивается;
в) каждый человек склонен представлять себя в идеальном образе, вторжение в сферу его представлений о себе, применение к нему иной системы измерений, характеристик вызывает взрывную волну.
В системе оценок автор нередко апеллирует к авторитету, которым может быть личность, норма, причем апелляция может быть к норме кодифицированной или бытового права, моральной догме, презумпции кодекса. «Целевая функция и оценка, даваемые этим авторитетом, признаются обязательными для всех членов группы. Представление об этом авторитете в психике субъекта играет роль его нравственного сознания, совести, его «сверх-Я». Авторитет задает некоторое абсолютное начало отсчета для оценок. Оценка, даваемая субъектом субъекту, является относительной и зависит от того, хорош или плох сам субъект. Конечно, априори каждый склонен считать сам себя хорошим, пока ему не доказали обратное («презумпция позитивности»). Однако другие субъекты могут иметь на этот счет свое мнение. Наличие единого, всеми признаваемого авторитета кладет конец этому разнобою в оценках (к примеру, решение или приговор суда по искам о защите чести и достоинства. – Авт.): отношение <...> авторитетной инстанции к субъекту может рассматриваться как абсолютная оценка субъекта как «плохого» или «хорошего». Но и <...> отношение субъекта к авторитету будет характеризовать теперь уже не столько этот авторитет (он заведомо, по определению позитивен), сколько самого субъекта – как положительного или отрицательного. Кто хорошо относится к авторитету, тот субъект хороший, а кто плохо – тот негодяй» (95, 149–150). Эту модель поведения часто демонстрируют кандидаты в депутаты на выборах, когда в агитационных материалах дают фотоиллюстрации, где они изображены вместе авторитетами (руководителями очень высокого ранга).
«Оценочные знаки симметрично распределяются по идеологическим объектам, плоскостям: все, что «наше» – всегда положительно, а все, что находится на другом полюсе – отрицательно. При этом оценки заменяют логическую аргументацию, приобретая характер аргументов. «Оценка целеориентирована в широком и узком смысле. Она применима ко всему, что устремлено к облагороженной модели малого и большого мира, то есть к тому, что человек считает добром. Это высшее добро лингвистика определить не может. Она может лишь подтвердить, что употребление общеоценочных предикатов (хороший и хорошо, плохой и плохо) обусловлено отношением к идеализированной модели мира» (8, 181).
По мнению Э. Агацци, «каждое человеческое действие связано с наличием некоторого «как должно быть» (2, 26). Любая операция, действие протекает в рамках стандарта или, если быть точнее, «идеальной модели», которая мыслится человеку. Сошлемся еще раз на Э. Агацци: «Многие человеческие действия считаются «хорошими» или «плохими» не потому, что они дают в результате «хороший» или «плохой» предмет..., а потому, что совпадают (или не совпадают) с некоторыми идеальными образцами, которые, как принято считать, непосредственно соотносятся с такими действиями» (2, 27).
Действия, поведение ценностно-ориентированы и оцениваемы. В действии изначально заложена интенция (намерение). «Интенциональные действия подчинены определенным правилам поведения, детерминированы понятием «как должно быть», проходят в соответствии с правилами, принятыми субъектами действия» (194, 15).
Эмоциональные оценки, оценочные суждения по своей природе непроверяемы, неверифицируемы. Система классификации оценок предполагает следующие основания: по характеру оценки – эпистемическая (от греч. episteme – знание), связанная с оценкой достоверности суждения. В плоскости достоверности – недостоверности суждения существуют виды эпистемических оценок: а) отрицательное утверждение; б) относительное отрицание; в) эмфатическое утверждение (подтверждение утверждения) (эмфатический, эмфаза – от греч. emphasis – разъяснение, указание, выразительность, выделение важной в смысловом отношении части высказывания (группы слов, слова или части слова), обеспечивающее экспрессивность речи. Эмфаза достигается просодическими средствами – интонацией, особым эмфатическим ударением, использованием особых эмфатических слов – усилительных частиц, вспомогательных глаголов, местоимений, синтаксическими средствами либо сочетанием всех или части этих средств) (304, 592); г) эмфатическое отрицание (подтверждение отрицания).
Оценка может иметь характер «аксиологический», ценностный (от греч. axia – ценность). «Здесь участвуют три фактора – реальность (ирреальность), положительность (отрицательность) оценки и важность (неважность) события. ...Оценка может быть «субъективной» или «объективной» ... оценки объективные, данные кем-то помимо меня... оценки субъективные, мое личное мнение, ...а не изложение чужих мнений по этому вопросу.
Характер оценки может меняться и в зависимости от «качества» эмоции, выраженной в высказывании, ...эмоция имеет свое «количество», связанное со значимостью высказывания. <...> оценочные суждения различаются в зависимости от того, что именно они оценивают: событие или факт (истинное суждение о событии) (204, 49–50).
Направленные, ярко выраженные, аффективные, оценки, несущие оскорбительные определения (выпады), в большинстве случаев выражаются пейоративной лексикой (пейоративный – содержащий отрицательную оценку, придающий неодобрительный оттенок значения (к примеру, уничижительные суффиксы: инженеришка, книжонка, старикашка) (222, 275) и фразеологией, используемой в качестве названий, определений и предикатов.
В журналистике достаточно много способов как некорректного (оскорбительного) определения личности или ее поступков, так и элегантного, даже изысканно-лукавого опорочивания оппонента. Среди таких способов распространены: навешивание ярлыков «<...> характеристики людей имеют тенденцию обозначаться существительными, а не прилагательными, если они рассматриваются как постоянные и/или бросающиеся в глаза и/или важные. Общий знаменатель, по мнению А. Вежбицкой, таков: существительное указывает на категоризацию; прилагательное, напротив того, указывает всего лишь на дескрипцию (дескрипция – от лат. descriptio – описание; языковая конструкция, заменяющая собственное или нарицательное имя предмета. – Авт.). Собственно говоря, это и есть причина того, что рядовые носители языка так часто боятся или возмущаются при употреблении существительных в качестве средств характеризации. Как часто приходится слышать такие предложения, как: I am not an alcoholie! I simply drink! Я не алкоголик! Я просто пью».
Лингвистическое чутье говорит людям, что одно дело, когда тебя называют Х-м, и совсем другое, когда тебя описывают посредством однокоренного прилагательного или глагола, не говоря уже о прилагательном или глаголе, которые лингвист мог бы назвать «синонимичными слову».
Дескрипция подразумевает наличие ряда характеристик, которые все находятся на одинаковом уровне значимости. Так, можно описать человека как высокого, худого, светловолосого, веснушчатого и т. д. Но, если отнести человека к категории горбунов, калек, прокаженных, девственников или подростков, эта характеристика не упоминается среди многих других, вместо этого человек помещается в определенную категорию, рассматриваемую в тот момент как «уникальная». На этого человека наклеивается ярлык, как можно было бы наклеить ярлык на банку консервов. Можно сказать, что существительное сравнимо с определительной конструкцией: «вот к какому виду человека относится этот человек». Прилагательное, напротив того, можно сравнить с простыми предикатами, совместимыми с множеством других сходных предикатов: «Этот человек (обладает признаками) X, Y, Z» (65, 96–97).
Нередко в навешивании ярлыков «категоризация» и «дескрипция» совпадают. В газете «Сельская новь» (№ 142, 08.12.1998), в публикации «Нацисты не пройдут» районный чиновник говорит о своем оппоненте: «Это очередной «народный герой» из серии четырех обиженных жизнью воров, отлученных от своих кормушек. ...Эти четверо, поверьте мне, являются самыми худшими представителями жителей <...> района и, естественно, представлять интересы всего района не могут».
«Запрещенным» приемом в журналистике является использование табуированных частей тела в сочетании с именами собственными, т. е. эксплуатация фоновых знаний адресатов информации, отсылка к знаниям инвективной лексики. (Инвектива – от лат. invectiva oratio – бранная речь, резкое выступление против кого-либо, чего-либо, оскорбительная речь, брань, выпад) (236, 247).
К инвективе относятся: а) ругательная нелитературная лексика, заимствованная из арго, жаргонов; б) обсценная (матерная) лексика; в) грубопросторечная лексика, входящая в состав литературного языка; г) литературные, но ненормативные слова и выражения.
Авторы книги «Понятия чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации» выделяют 8 разрядов инвективной лексики и фразеологии, относящейся к сфере литературного языка.
«1. Слова и выражения, с самого начала обозначающие антиобщественную, социально осуждаемую деятельность: бандит, жулик, мошенник. 2. Слова с ярко выраженной негативной окраской, составляющей основной смысл их употребления: двурушник, расист, враг народа. 3. Названия профессий, употребляемые в переносном значении: палач, мясник. 4. Зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям животных: кобель, кобыла, свинья. 5. Глаголы с «осуждающей» семантикой или даже с прямой негативной оценкой: украсть, хапнуть. 6. Слова, содержащие в своем значении негативную, причем весьма экспрессивную оценку чьей-либо личности: гадина. 7. Эвфемизмы для слов 1-го разряда (ругательная нелитературная лексика, чаще всего взятая из жаргонов и диалектов), сохраняющие свой оценочный (резко негативный) характер: женщина легкого поведения, путана, интердевочка. 8. Окказиональные (специально создаваемые) каламбурные образования, направленные на унижение или оскорбление адресата: коммуняки, дерьмократы, прихватизация» (204, 27).
Использование лексики из приведенной выше классификации находится за пределами поля культурного общения, речевого этикета и нравственности, нашло свое применение в текстах СМИ.
«В прессе встречаются и особые оценочные конструкции. Так, автор одной из публикаций, резко критикуя главного редактора другого печатного издания, заканчивает свою статью следующим образом: «Так что все. О В. Т. больше не пишу <...> Но все же я В. Т. несказанно благодарен. Он поставил передо мной исключительно сложную творческую задачу: написать о главном редакторе, не употребляя слова «гнида». Получилось» (126, 261–262).
Использование инвективной лексики можно назвать «внерамочной дефиницией», где под «рамкой» понимается поле литературного языка. Инвектива – это еще и символ, знак, относящий определяемого, оцениваемого субъекта к определенной маргинальной группе, группе за пределами нормального общества.
«Любой знак включает в себя или предполагает наличие трех типов отношений. Прежде всего – внутреннее отношение, соединяющее означающее с означаемым, и далее два внешних отношения. Первое виртуально; оно относит знак к некоторому определенному множеству других знаков, откуда он извлекается для включения в речь; второе отношение актуально, оно присоединяет знак к другим знакам высказывания, предшествующим ему или следующим за ним в речевой цепи. Первый тип отношений отчетливо обнаруживается в явлении, называемом обычно символом; например, крест «символизирует» христианство, красный цвет – запрет на движение; назовем это первое отношение символическим.
Второй план отношений предлагает для каждого знака существование определенного упорядоченного множества форм («памяти»), от которых оно отличается благодаря некоторому минимальному различию, необходимому и достаточному для реализации изменения смысла (к примеру, формы склонения слова). Красный цвет не означает запрета, пока не включается в регулярную оппозицию зеленому и желтому; этот план отношений является, таким образом, системным, его называют иногда пограничным, а тип отношений парадигматическим.
В третьем типе отношений знак сополагается не своим «братьям» (виртуальным), а своим «соседям» (актуальным). В одежде элементы костюма соединяются по определенным правилам: надеть свитер и кожаную куртку значит создать кратковременную, но значащую связь между ними, аналогичные связи слов в предложении, этот план отношений реализуется в синтагме, поэтому назовем этот тип отношений синтагматическим.
Выбор одного доминирующего отношения предполагает каждый раз определенную идеологию; вместе с тем – каждому осознанию знака ... соответствует некоторый момент рефлексии, индивидуальной или коллективной» (34, 246–247).
Оскорбление, как действие оценочное, нарушающее равновесие пар противоположностей, преследует цель усиления одной стороны – негативной, в которой язык, по выражению Р. Барта, – «тотализирующая абстракция» переданных и полученных сообщений» (34, 314) – представляет неисчерпаемую сокровищницу знаков, символов, представлений. «Представление <...> как бы резюмирует сущность всех возможных видов, <...> точнее воплощает идею <...> в чистом виде; что же касается денотативного слова, то оно никогда не отсылает к какой-либо сущности, поскольку всегда включено в тот или иной окказиональный контекст, в ту или иную дискурсивную синтагму, направленную на осуществление определенной практической функции языка» (34, 314–315).
Идеология знака наиболее ярко проявляется в исковых заявлениях о защите чести и достоинства, в которых преследуется несколько целей: нейтрализация отрицательных смыслов, направленных на личность высказываний (или высказывания), изменение положения пар противоположностей.
«Идеология» знака служит исходным «сырьем» для дефиниций – оценок. Нередко журналист оперирует интегральными субъективными оценками и/или суждениями, избегая концентрации внимания на каком-либо компоненте ситуации или личности субъекта. Первичные данные есть следствие чувственности, интуитивных процессов: ощущений, восприятий. Образы или «гештальты» содержат в себе нераскрытую до времени «идеологию» знака. Означивание выполняет функцию размещения знаков по ступеням иерархической лестницы ценностей, причем в большинстве случаев здесь используются латентные параметры.
Инвективная лексика – это оружие экспансии, вражды, которое «обладает устойчивостью и способностью к самоподдержанию» (95, 152).
В газете «Кубанский курьер» регулярно публиковались материалы о деятельности администрации Кущевского района (последний «Воруй, пока воруется, тащи, пока тащится»), что говорит не только о пристальном внимании газеты к району, но и о «вражде» редакции с администрацией, о чем свидетельствует лексика публикаций. «Глава администрации <...> бывшую партийную гетеру, утратившую в силу возраста внешнюю привлекательность, сделал директрисой совхоза» («Кубанский курьер», № 14 (831), 8–14 апреля 2000 г.).
Об устойчивости вражды и ее способности к самоподдержанию свидетельствует текст, который целесообразно привести полностью:
«Потратил попусту ... ушаты грязи. Этой истории скоро два года. Поэтому считаю нужным напомнить читателю ее суть.
17 июня 1995 года в газете «Кубанские новости» был напечатан материал собкора Н. Г. «Не тратьте попусту... белила». Я вынужден был после этой грязной публикации, оскорбившей мое журналистское и человеческое достоинство, обратиться в Калининский районный суд, который признал сведения, опубликованные в «Кубанских новостях», и не соответствующими действительности и порочащими мою честь, достоинство и деловую репутацию.
Н. Г. в ходе судебного заседания и в «Кубанских новостях» от 16 сентября 1995 года принес мне извинения. Цитирую «Кубанские новости»: «...мне остается публично принести извинения и за поспешный вывод, и за весьма нелестные высказывания в адрес В. Е. Р. Сделано это было в пылу эмоций, поэтому, думаю, Владимир Ефимович, сам старый, опытный газетчик, поймет меня и простит грубые и досадные промахи. Н. Г.».
Повторюсь: это было заявлено в сентябре, а чуть позже, в декабре 95-го, состоялся суд. Почему в декабре? Н. Г. болел и неоднократно не являлся на его заседания. Ответчик иск признал полностью и повторил принесенные мне извинения.
Честно говоря, на этом можно было тогда поставить точку, но если бы Н. Г. был до конца искренним! Судите сами: заголовок сентябрьского так называемого извинения – «Пока суд да дело» – ни о чем не говорил, как и рубрика «Возвращаясь к напечатанному». Но тут мне вспомнился старый анекдот, когда к Ивану, публично назвавшему Петра дураком, суд решил применить моральный принцип. Он обязал Ивана прямо на суде при всех извиниться. Иван, не мудрствуя лукаво, заявил: «Петро, ты не дурак? Я извиняюсь!», вторично, по сути дела, оскорбив Петра. Примерно так вышло и с извинениями Н. Г. Поэтому я решил обратиться в Ленинский районный суд г. Краснодара, куда и подал исковое заявление, уже на газету «Кубанские новости», допустившую прямые оскорбления в мой адрес в упомянутой статье Н. Г. Тем более что и сейчас, после перенесенного дважды инфаркта (по этой причине я не стал в ходе судебного заседания настаивать на возмещении морального вреда, удовлетворившись публичными извинениями), он работает не только собкором «Кубанских новостей», но и платным руководителем пресс-центра Калининской районной администрации, а еще – корреспондентом районной газеты «Калининец». Выходит, зря я его пожалел.
Ленинский районный суд г. Краснодара недавно рассмотрел мое исковое заявление, удовлетворил его, решив взыскать с ответчика - Н. Г. 500 тысяч рублей в мою пользу в возмещение морального вреда. Значит, попусту выливал он ушат грязи, грубо нарушив неписаный закон святого журналистского братства».
Незначительный конфликт на газетных полосах вылился в судебные слушания с решением о взыскании морального вреда. Текст, его сверхфразовые единства (абзацы) могут быть подвергнуты двойному членению, «обыденное сознание, исходя из некоей мифологизированной идеи Жизни, <...> склонно воспринимать изображение как инстанцию, сопротивляющуюся смыслу: с точки зрения обыденного сознания, изображение есть воспроизведение, иными словами, возрождение живого» (34, 297).
Автор текста продемонстрировал свою непримиримость и желание «добить» противника. Использована экспрессивная лексика: «ушаты грязи», «нелестные высказывания», «грубо нарушив», «закон журналистского братства» и т. д.
Погоня за стилем в ущерб содержанию, смысла подводит автора и вызывает сомнение в наличии у него достоинства и знания «законов святого журналистского братства» – его противник перенес два инфаркта, а он пишет, что «зря его пожалел». Стилевые средства подчеркнули логико-смысловую систему мышления автора и выявили ассоциативные связи.
«Все ценностные суждения скрывают за собой общее утверждение, то есть отсылку к некоторому стандарту, применимому не только к данному, но и другим случаям» (8, 175).
Оценка имеет двустороннюю природу, «требует определенных прагматических условий, ее стимулирует ситуация альтернативы, обычно не отделенная от непосредственной или от далекой цели» (8, 177). Адресант предлагает, а адресат воспринимает или выбирает сам, или формулирует свою оценку, поскольку «язык есть «тотализирующая абстракция» переданных и полученных сообщений» (34, 314), «язык должен включать в себя и все возможные смысловые «неожиданности» (34, 314).
Слова, оценки, оценочные суждения – это признаки «вещей», и даже признаки признаков – абстракций, «оценка невозможна вне сравнения объектов, входящих в один класс. Из этого тезиса следует, во-первых, что все, что оценивается, входит в некоторый класс, во-вторых, что все, что можно оценить как хорошее, можно оценить также как лучшее в сравнении с чем-либо другим» (8, 177). То же самое происходит и с отрицательной оценкой с использованием инвективной лексики, причем оценка не может быть произведена, если объект не принадлежит ни к одному компаративному классу. Вопрос об оценке должен формулироваться не в отвлечении от класса, то есть не просто «хорошо это или плохо?», а с учетом аксиологической таксономии предмета (8, 177).
Выявление истинности (верификация) суждения преобразует мнение в знание как для себя, так и для другого. Инвективное оценочное суждение обладает большей абстракцией, чем положительное. Невозможно представить человека «козлом, дубиной, сволочью, гадиной» и т. д. Здесь наличествует таксономия признаков, и «для того, чтобы оценить объект, человек должен пропустить его через себя: природа оценки отвечает природе человека» (8, 181).
При оценивании оценки определяется специфика целого концептуального поля и логические отношения входящих в него элементов. «Фон Вригт распределяет аксиологические концепты между тремя основными критериями: 1) собственно оценка <...>, 2) нормативные концепты, 3) концепты, относящиеся к человеческим действиям, поступкам: практическое рассуждение, намерение, мотив, воля, желание, цель, необходимость, потребность» (8, 184). Журналисты преимущественно используют «концепты, относящиеся к человеческим действиям», что требует если не истинного отражения действительности, то хотя бы приближения к истинности, формулирования высказывания таким образом, чтобы избежать неверной интерпретации. Оценка – «мерзавец» – квалифицирует объект и нуждается в интерпретации.
Наиболее полная и глубокая классификация оценок была предложена фон Вригтом, который предложил следующие разновидности оценок: «1) инструментальные оценки, 2) технические оценки, 3) оценки благоприятствования, 4) утилитарные оценки, 5) медицинские оценки <...>. Этическая оценка (добрая воля, хорошее намерение, плохой поступок) рассматриваются фон Вригтом как вторичная, производная от оценки благоприятствования.
В дальнейшем изложении системы фон Вригта выделены следующие аспекты оценочных концептов: 1) категория объектов, к которым они применяются, 2) логические отношения между антонимическими концептами, 3) проблема смысла оценочного предиката, 4) возможность верификации оценочного суждения, 5) коммуникативная функция оценочного высказывания, 6) отношение к сравнению. <...> Поскольку функция объединяет оцениваемые объекты в класс и именно она служит мотивом оценки, оценочный предикат характеризует объект как член класса» (8, 189). Концепт «зоны риска» (ранее не категоризированный, а представленный только эмпирически) выступает как закономерный фрагмент концептуальной полисистемы. Его системные связи позволяют выявить современную познавательную тенденцию – «конфликтообусловленное» развитие новых элементов логической структуры концептов.
Выявление, обоснование и прогнозирование «зон риска» требуют особенно динамичного подхода к соответствующей сфере. Их игнорирование резко ослабляет иммунитет к негативу. Их преувеличение абсолютизирует негативную тенденцию и отталкивает от СМИ значительную часть аудитории. Следовательно, в этой сфере наиболее необходима опора на четко дискретизированный Концепт. Таким Концептом является Субстанция события. «Зоны риска» характерны не только для СМИ, но и для суда, который, совершая методологические операции, так же как и СМИ, оценивает, выносит суждения, что объединяет его со СМИ.
Образы содержат в себе идеологию знака, что представляет собой орудие эмоциональной агрессии, имеющей в большинстве случаев латентный характер, который определяется в суде. В «зоны риска» входит инвективная лексика или «внерамочная дефиниция», которая относит субъекта к маргинальной группе, что вступает в противоречие с этическими нормами. Апеллированние к авторитету (закону, харизматической личности, цитате и т. д.), включение его в систему события приводит к дисгармонии смыслового поля.
Концепты в системе Текста
Общепринятые научные формулировки Текста (от лат. textus –ткань, сплетение, переплетение) определяют его как объединенную смысловой связью последовательность языковых знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность.
Правильность построения любого Текста (устного и письменного) связана с соответствием требованию текстуальности, т. е. внешней связности, внутренней осмысленности, возможности правильного и своевременного восприятия, осуществление необходимых условий коммуникации. Правильность восприятия Текста обеспечивается не только языковыми единицами и их соединениями, но и «памятью», общим фоном знаний, коммуникативным фоном.
«Текст – это целенаправленное речевое произведение, состоящее из неопределенного количества грамматических структур (предложений) и при этом имеющее определенный смысл, в той или иной степени отличный от смысловых показателей этих грамматических структур» (93, 11–12). <...> Текст – это сообщение, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, состоящее из ряда особых единств, объединенных разными типами лексической, грамматической и логической связи и имеющее определенный модальный характер и прагматическую установку (93, 72). <...> Текст – это продукт письменного варианта языка. Текст всегда имеет графическое воплощение. Он обладает своими параметрами, которые определяются его двойственной природой, состоящей в постоянной потенциальной возможности его прочтения. Текст находится одновременно в состоянии покоя и в движении.
Представленный в последовательности дискретных единиц Текст находится в состоянии покоя, и признаки движения выступают в нем лишь имплицитно. Но когда Текст воспроизводится, читается слух или про себя он находится в состоянии движения, и тогда признаки покоя проявляются в нем лишь имплицитно.
По мнению М. М. Бахтина, «где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» (29, 297).
Любой Текст – это система языка, которая предлагает общепонятную систему знаков. В Тексте системе языка соответствует «все повторенное и воспроизведенное и повторимое и воспроизводимое», все, что может быть дано вне данного текста (данность) (29, 249), что особенно проявляется в журналистских текстах. Событийное поле не отличается широким разнообразием, но тексты, отражающие события, являются индивидуальными и «единственными», поскольку отражают отношения.
При чтении текста происходит перекодирование сообщения, «кодирование и декодирование» <...> эквивалентны речевым действиям коммуникантов в процессе их совместной деятельности (в рамках нашей темы – это диалогические отношения адресанта и адресата. – Авт.) <...> интеракция и понимание могут и не состояться, если структура личности, объем, качество и структура банка информации коммуникантов будут иметь существенные различия» (135, 64). Сигналы кода, рассчитанные на восприятие глазами, трансформируются в слуховые сигналы, не полностью утрачивая характеристики первого кода» (135, 73).
«В науке под текстом понимается определенная последовательность любых знаков, любая форма коммуникации, в том числе обряд, танец, ритуал. <...> Текст – это коммуникативная структура, которая специально предназначена для понимания» <...> текстом (в лингвистическом смысле) называется последовательность речевых звуков (букв), которым носителями языка приписан некоторый смысл. <...> Текст – это такая последовательность звуков (букв), которая осмыслена как для говорящего, так и для слушающего в условиях коммуникации, т. е. это неслучайная последовательность. Данное определение максимально удобно для понимания коммуникативных функций речи. Таким образом, текст может называться текстом, если он понятен. Поэтому, по мнению Е. Н. Зарецкой, классический пример «глокая куздра» текстом не является, хотя, если вдуматься, то можно предположить, что это нечто произнесенное на русском языке и, может быть, даже сочетание прилагательного с существительным, а если это существительное, то, скорее всего, женского рода, потому что оно согласуется, в частности по роду с прилагательным. Тем не менее непонятно, что это такое, и это не текст по определению» (111, 299–301). Здесь, на наш взгляд, уместно прервать цитирование и возразить автору этого высказывания. «Глокая куздра» является текстом, ему присущи грамматическая связность, внутренняя осмысленность, последовательность и возможность декодирования. Временная непонятность не должна вызывать затруднений.
Приведем пример очень похожий на «глокую куздру». Два русских крестьянина (вятские) ведут разговор: «Штее у тея?» – «Шоры!» – «Лонские?» – «Лонские лониста запроданы». – «А есть ли у тебе селюшки?» – «Нет, парень, всех распродал». – «Да ште у тебя талы-то покраснели?» – «Да ште! После комухи, знашь!» – «Ну, прости, родимой: пойти купить мелу!»
А вот «перевод» вятского диалога, точнее русского на русский литературный: «Что это у тебя?» – «Индейки!» – «Прошлогодние?» – «Прошлогодние в прошлом году проданы». – «А есть ли у тебя цыплята?» – «Нет, парень, всех продал». – «Да что у тебя глаза-то покраснели?» – «Да что! После лихорадки, знаешь!» – «Ну, прощай, дорогой: пойду купить дрожжей!» (94, 23). Хоть это и диалект, но это русский язык, такой же, как «глокая куздра». И если мы не понимаем текст, то это еще не означает, что он не является текстом. Просто в нем на данный момент не выражена функция понимания, а следовательно, и коммуникации. «Поскольку значительная часть смыслов не передается языковыми средствами, процесс понимания текста может трактоваться как процесс решения задач. Брешь между «тем, что сказано» и «тем, что понято» заполняется посредством имплицитных выводов (следствий), осуществляемых с использованием базы знаний, имеющихся в памяти слушающего. «Мыслительная процедура интерактивного вывода следствий включает в себя точную идентификацию тех точек концептуального пространства, в которые будет помещена значимая поступающая информация» (160, 141).
Текст как целое речевое произведение, выраженное жанром или функциональным стилем, становится главным объектом изучения лингвистики в 60–70-е годы». «Обязательным свойством текста культуры является его универсальность: картина мира соотнесена всему миру и в принципе включает в себя все» (151, 389). Текст рассматривается как явление социально-речевое (он выступает как высшая коммуникативная единица, функция которой заключается в реализации коммуникативных потребностей общества. Следует отметить, что в «рамках лингвистики текста складывается два объекта исследования – сверхфразовое единство и целое речевое произведение, очень часто недифференцированно именуемое «текст» и неразграничиваемое четко авторами статей и монографий по лингвистике текста» (177, 33).
Процесс порождения Текста есть процесс взаимозависимых и взаимосвязанных высказываний, в котором «один из коммуникантов (автор), подчиняясь мотиву деятельности или цели ее этапа, условиями общения, производит высказывание, второй коммуникант (адресат) его воспринимает, интерпретирует и, в соответствии с собственным мотивом деятельности, целью этапа и условиям общения, реагирует на полученную информацию. Важно учитывать, что информация не только передается, но и формируется, развивается, уточняется» (178, 4). «Построение текста подчинено речевому намерению, схеме, программе, которая существует не в смыслах, закодированных одним из кодов внутренней речи. По структуре это предикация, т. е. выделившийся предмет мысли и приписанный ему признак» (178, 4).
Текст является продуктом сознания его создателя, Текст – «это не только языковая единица в ряду лингвистических единиц, но и единица культуры, единица человеческой коммуникации, единица цивилизации и т. д.; словом, текст – это своеобразный «черный ящик», в котором спрятано прошлое, будущее и настоящее человека (спинозовская «точка» – «теперь – здесь». – Авт.), поэтому-то «текст как единица общения, как определенный способ организации значений и структурирования смысловой информации для целей общения, как воплощение целенаправленной интеллектуально-мыслительной деятельности индивида не поддается анализу средствами дисциплин лингвосемиотического рода», а требует междисциплинарного подхода» (136, 207).
Совокупность смыслов составляет основу Текста; предложение, высказывание подчинено цели оформления мысли и/или мыслей и собственно «смысл, будь то отдельный смысл, смысл слова или смысл предложения-высказывания, являет собой некоторую комбинацию мыслей, отражающую определенный фрагмент действительности» (259, 103).
Как замечает Н. И. Жинкин, «человек не говорит отдельно придуманными предложениями, а одним задуманным текстом». Именно Текст является результатом речевой деятельности говорящего (пишущего. – Авт.), а «предложение выступает как средство сегментирования той информации, которую нужно передать» (178, 4).
По мнению Ролана Барта, текст не является исчислимой субстанцией, «тщетна всякая попытка физически разграничить произведения и тексты» (34, 414). Произведение – литературное, журналистское – есть «вещественный фрагмент», который является составной частью книжного, газетного пространства, а текст – «поле методологических операций» (34, 415). По мысли Барта: «Текст – доказывается, высказывается в соответствии с определенными правилами (или против известных правил). Текст – не продукт распада произведения, наоборот, произведение есть шлейф воображаемого, тянущийся за текстом. <...> Текст ощущается только в процессе работы, производства. Отсюда следует, что Текст не может неподвижно застыть (скажем, на книжной полке), он по природе своей должен сквозь что-то двигаться, например сквозь произведение, сквозь ряд произведений» (34, 415). Текст есть всеобщая и самодостаточная сущность, которая из самой себя порождает произведение, обладающее материальной выраженностью, включающее смысловые концептуальные ряды.
«Текст познается, постигается через свое отношение к знаку. Произведение замкнуто, сводится к определенному означаемому» (34, 416). Последняя мысль наиболее четко отражает специфику журналистской деятельности, т. е. произведение в целом функционирует как знак. Текст и произведение не равнозначные понятия, «текст уклончив, он работает в сфере означающего. Означающее следует представлять себе не как «видимую часть смысла», не как его материальное преддверие, а наоборот, как его вторичный продукт. Так же и в бесконечности означающего предполагается не невыразимость (означаемое, не поддающееся наименованию), а игра, порождение означающего в поле текста (точнее, сам Текст и является его полем) происходит вечно <...> причем не органически, путем вызревания, и не герменевтически, путем углубления в смысл, но посредством множественного смещения, взаимоналожения, варьирования элементов. Логика, регулирующая текст, зиждется не на понимании (выяснении, «что значит» произведение), а на метонимии; в выработке ассоциаций, взаимосцеплений, переносов находит себе выход символическая энергия» (34, 416–417). Текст включает в себе неограниченное пространство Концептов.
Текст – это прежде всего множественность смыслов. Смыслов поверхностных и глубинных, смыслов авторских и читательских. Между ними нет мирного сосуществования. Множественность вызвана действием интерпретативной функции, многозначностью элементов, из которых соткан Текст.
«При декодировании информации сжатое изложение содержания частей неизбежно влечет за собой подключение собственного тезауруса («в теоретическом отношении тезаурус является одной из возможных моделей семантической системы лексики... как средство обогащения индивидуального словаря пишущего» (304, 507). В итоге адресант и адресат вступают в диалогические отношения.
Текст имеет внутреннее напряжение. Он может быть понятным и размытым, т. е. непонятным, в котором адресант, выбрав несколько смысловых стержней, не видит главного. Журналистский текст строится по определенным принципам, среди которых возможность понимания текста без использования дополнительных средств: словарей, справочников и т. д.
«Для удобства изложения воспользуемся термином «референция» (от лат. referentio – сообщение) и таким образом обозначим понятный текст референционно прозрачным, а непонятливый – референционно непрозрачным. Референционно прозрачный текст содержит в себе необходимый для восприятия объем информации, не загружая память. В нем поверхностная и глубинная структуры не находятся в состоянии конфликта.
Референционно непрозрачный текст читатель интерпретирует, используя собственную информационную базу, подменяя авторскую мысль своей мыслью, разрывая глубинную структуру на эпизоды, при этом каждый эпизод получает свою глубинную и поверхностную структуры, поскольку «индивидуальность объясняется с помощью того факта, что каждая репрезентирующая субъективность сосредоточена на самой себе и представляет мир как целое своим собственным уникальным способом» (283, 36).
Переформулирование информации меняет и цель сообщения, задает иное «единство» смысловых элементов. Драматургия Текста разрушается и из его фрагментов создается новый Текст, который может, в свою очередь, как реинтерпретироваться, так и переформулироваться.
Первоначальная целостность Текста разрушается и создается новая, но уже квазицелостность, подтекстовые связи из глубинной структуры переводятся в поверхностную, что, в сущности, меняет оценки, заложенные в Тексте на противоположные. Референционно прозрачный текст переводится в состояние референционно непрозрачного и уже на этой базе создается иная оценочная база.
Рассмотрим эту презумпцию на следующем примере. В газете «Вечерний Новороссийск» (№ 53/53 от 4 ноября 1999 г.) опубликована заметка «Кража в белом доме» под рубрикой «Инцидент»: «Нынешние выборы в Госдуму по избирательному округу № 41 запомнятся скандалом, который случился 29 октября в городском избиркоме: пропала папка с подписными листами, которые собирали сторонники З. Б., претендентки на кресло в Госдуме.
Свидетели происшествия и пострадавшая каким-то образом связывают пропажу этой папки с появлением в избиркоме кандидата в депутаты Госдумы С., сопровождаемого шестью вооруженными охранниками. Члены избиркома № 41 озабочены и крайне удивлены, как вооруженные «м-цы» свободно прошли в здание администрации мимо милицейского поста, и вспомнили недавний захват армянского парламента террористами.
Подробностями пропажи занимаются следователи УВД города и ФСБ. А мы, в свою очередь, расскажем читателям все перипетии, связанные с этим вопиющим случаем».
В исковом заявлении в суд эта заметка была переформулирована и получила следующий вид:
«Общее содержание данной статьи и приведенные в ней не соответствующие действительности сведения не только существенно подрывают мой авторитет как зарегистрированного кандидата в депутаты Госдумы РФ, кем я на тот момент являлся, и уже избранного депутата Госдумы, но и также порочат мою честь и достоинство как гражданина.
<...> Действительно, 29 октября 1999 г. я, будучи зарегистрированным кандидатом в депутаты Госдумы по Новороссийскому одномандатному округу № 41, примерно в 17 часов 15 минут зашел в помещение окружной избирательной комиссии для получения консультации по вопросам проведения избирательной кампании. Это право предоставлено мне как зарегистрированному кандидату <...> В это время в помещении находились члены комиссии, представитель ФСБ и кандидат в депутаты Госдумы З. Б., а также пять-шесть человек ее представителей. Как мне объяснили, происходила проверка подписных листов, представленных З. Б. Так как процесс проверки подписных листов происходил достаточно напряженно, представители З. Б. практически дезорганизовали работу комиссии, громко и в недопустимой форме реагируя на любые замечания членов комиссии по поводу выявленных нарушений при отборе подписей, я понял, что получить ответы на интересующие меня вопросы не удастся и покинул помещение комиссии.
Необходимо добавить, что с момента захода в здание администрации г. Новороссийска никого со мной в тот момент не было, в том числе и «шести вооруженных охранников», которые если и сопровождали меня, то в количестве не более одного. Данный факт могут подтвердить присутствовавшие там члены окружной избирательной комиссии.
О пропаже одной из папок с подписными листами в поддержку кандидата в депутаты Госдумы З. Б. я узнал лишь на следующий день.
Считаю, что редакция газеты «Вечерний Новороссийск» целенаправленно опубликовала заранее искаженные сведения, чтобы опорочить меня как зарегистрированного кандидата в депутаты Госдумы перед избирателями и тем самым противозаконными методами воспрепятствовать проведению честных и объективных выборов. <...>
Своими действиями по опубликованию заведомо ложной информации, содержащей также обвинения в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена действующим законодательством РФ, редакция газеты причинила мне моральный вред, который я оцениваю в пятьсот тысяч рублей».
Основное условие референционной прозрачности Текста – это целостность, единство содержания, взаимосвязь и взаимозависимость всех смысловых элементов. То, что остается вне Текста, за Текстом, читателю неизвестно. Журналист «снимает» психический образ события и дает его в том виде, который считает наиболее достоверным. Истец «снимает» психологический образ с этого же события, но вводит в него новые элементы, читателю первого Текста неизвестные.
Идея и основная мысль объединяют все содержание референции (сообщения). Тема Текста является ядром основной мысли. В первом Тексте идея Текста – выборы происходят с инцидентами. Основная мысль – пропала папка с подписными листами. Почему в избиркоме могла пропасть папка?
Центральное событие – пропажа папки – дополнено второстепенными элементами события: появление в помещении избиркома еще одного кандидата и в то время, когда эта папка пропала. Информационные блоки первого текста выстроены в определенную последовательность:
1) пропала папка с подписными листами;
2) эта папка принадлежит кандидату в депутаты З. Б.;
3) в то время, когда выяснилось, что пропала папка, в помещении избиркома появился кандидат С., которого сопровождали охранники;
4) члены избиркома «соединили» время пропажи и время появления С.;
5) члены избиркома были удивлены легкостью, с которой прошли в помещение избиркома кандидат и его охранники;
6) члены избиркома вспомнили захват армянского парламента;
7) следователи УВД и ФСБ занимаются поиском пропавшей папки. Смысловое ядро текста заключается в следующем: не без инцидентов проходят выборы. Пропажа папки с подписными документами в помещении избиркома – это недостаток в работе избиркома. Структурный план первого текста можно представить в таком виде:
1+2 = цель сообщения, идея Текста
3+4+5+6 +7= дополняющие событие элементы
В ходе структурного анализа выявляются микротексты, которые могут выходить за пределы первоначальной структуры и порождать новые тексты с новыми смысловыми ядрами. Но это будет уже насильственное изменение структуры Текста, авторского замысла. Рассмотрим один из микротекстов: «члены избиркома <...> вспомнили неравный захват армянского парламента террористами». В этом микротексте содержится имплицитная информация о том, что служба охраны парламента работала плохо; охрана избиркома тоже работает плохо; сегодня легко прошли в здание одни, завтра – другие, поэтому неудивительно, что пропадают папки с подписными листами; есть необходимость улучшить работу охранной службы.
По мнению Н. В. Муравьевой, «структурный план необходим журналисту, даже если материал уже написан. «Отметим основные моменты в составлении такого плана:
– находим идею и основную мысль текста; основная мысль, т. е. установочный тезис – это описание в одном-двух предложениях исходной ситуации; именно эти предложения остаются, если сократить, сжать целостный текст: в непонятном материале может быть несколько основных мыслей <...>;
– находим в составе основной мысли – или каждой основной мысли, если в материале их несколько, – тему и характеристику темы: это важно, потому что последовательное, логичное развитие основной мысли возможно только тогда, когда ближайший к основной мысли уточняющий тезис соотносится не вообще с основной мыслью, а именно с характеристикой темы, отталкивается от этой характеристики;
– находим в тексте все возможные уточняющие тезисы; соотносим развитие основной мысли с идеей материала – это помогает увидеть, соответствует ли такое развитие цели сообщения; находим недостающие и «лишние» тезисы, «разрывы» и второстепенные линии в авторских рассуждениях: отмечаем неудачные «склеивания» логических цепочек;
– соотносим иллюстрации и тезисы, фон и остальное содержание текста – это помогает найти недостающие и «лишние» факты, оценить связь основных и второстепенных элементов смысла» (164, 29).
Содержание нового Текста развертывается «за фактом». Фактом здесь служит пропажа папки. Все элементы Текста дают читателю представление о реальных событиях. Авторская концепция не отходит от события. Интерпретативная функция нулевая. Копирование реального события выполняет несколько условий, постулатов стандартного изображения события: полнота эпизодов; хронологическая последовательность эпизодов; единство, референционная прозрачность микротекстов; отсутствие оценочного суждения.
Рассмотрим второй Текст – исковое заявление. Информационные блоки:
1) общее содержание данной статьи и приведенные в ней сведения не соответствуют действительности, подрывают авторитет и порочат честь и достоинство кандидата в депутаты, т. е. истца;
2) истец зашел в помещение избиркома для получения консультации;
3) в помещении избиркома проходила проверка подписных листов кандидата в депутаты З. Б.;
4) помощники кандидата в депутаты З. Б. «практически дезорганизовали работу комиссии»;
5) истец понял, что получить консультацию не удастся, и ушел;
6) о пропаже папки узнал на следующий день;
7) в помещение избиркома истец заходил один, без охранников;
8) редакция опубликовала «заведомо ложную информацию», обвинила истца в совершении правонарушения.
Основная идея второго Текста – приходил за консультацией, но не получил и ушел, о пропаже папки узнал на следующий день.
Смысловое ядро: истца обвинили в пропаже папки, подорвали его авторитет. Структурный план второго текста можно представить в таком виде:
1 = идея текста
5+6 = цель сообщения
2+3+4+7 = дополняющие событие элементы
8 = дополнение идеи Текста
Содержание второго Текста референционно непрозрачно и следует не за фактом, а за идеей, точнее интерпретацией «факта» в выгодном для истца свете. Реальное событие трансформируется, в смысловую структуру вносятся новые элементы – «процесс проверки проходил достаточно напряженно», «представители З. Б. практически дезорганизовали работу комиссии», «я понял, что получить ответы на интересующие меня вопросы не удастся», «никого со мной не было», узнал о пропаже папки на следующий день», – новые элементы, которые меняют психический образ события. Реальное событие, а точнее психический срез с события, был трансформирован с помощью дополняющих события элементов. Авторская (истца) концепция события такова: событие представлено иначе, чем было в действительности и, следовательно, порочит честь и достоинство истца. Такой способ трансформации реального события в журналистике называется «просеивание». Смысловая структура первого текста развертывалась в содержании «за фактом», второго Текста – за «авторской» концепцией.
В любом Тексте всегда присутствует авторское «слово», не в форме – я видел, я знаю, – а в выборе языковых средств, эмоционального фона текста. Г. Шпет предлагает рассматривать личность и сознание автора как «аналогон слова», а именно «личность как и слово» имеет свои чувственные, оптические, логические и поэтические формы» (207, 36). События в Тексте, при условии их полного соответствия действительности, отходят на задний план, само воспринимаемое текстовое пространство рационализируется, «за каждым словам автора мы начинаем «слышать его голос, догадываться о его мыслях, подозревать его поведение» (207, 37).
В анализируемой выше заметке «Кража в «белом доме» автор говорит о том, что «свидетели происшествия и пострадавшая каким-то образом связывают пропажу этой папки с появлением в избиркоме кандидата в депутаты», а истец (т. е. кандидат в депутаты) оппонирует редакции в исковом заявлении, что заходить-то он заходил в избирком, но ушел и о пропаже папки узнал на следующий день.
Истец проявляет свои намерения не столько в форме сатисфакции, сколько в проецировании собственного «Я», т. е. «сентенции следует рассматривать как виды, относящиеся к роду интенционалий, к парадигме ожиданий и проекций «Я» (229, 46).
Автор заметки не говорит, что папку украл кандидат, а истец (т. е. кандидат) в исковом заявлении тоже обходит стороной мысль о своей причастности к краже папки, но имплицирует мысль, что газета его обвинила в краже папки. «Слова, используемые автором, сохраняют свой смысл, но нас, подчеркивает Шпет, интересует «как бы особый интимный смысл, имеющий свои интимные формы» (207, 37). Здесь мы сталкиваемся с понятием «языковое сознание», что можно определить, по Г. Шпету, следующим образом: «языковое сознание – это «объективное языковое сознание, содержание которого изначально оформлено и непрерывно меняется не только сообразно формам, но и в самих своих формах» (207, 37).
Языковое сознание трансформирует реальную ситуацию. Трансформация отражает связь между основными и второстепенными элементами смысловой структуры Текста. В газете Текст разворачивается от факта, читателю предлагается целостный образ ситуации, события. И единство этого образа может быть оценено как единство всей смысловой структуры речевого сообщения. Понимание такого Текста на более глубоком уровне, на уровне авторской концепции требует от читателя интеллектуальной самостоятельности, воображения. Воображение необходимо стимулировать с помощью приемов трансформации реальности и вербальных средств.
Безынициативное следование за фактом приводит к фотографичности Текста, при которой читатель получает поток подробностей, нагромождение имен, цифр, характеристик. Тут кроется опасность перехода Текста в категорию ложных текстов, если некоторые элементы будут сокращены или даны не точно. Смысловая структура Текста «рассогласована», идеи стержня Текста нет, и он становится референционно непрозрачным при неукоснительном следовании за фактом или фактами. Введение в такой Текст языковых «украшений» примитивизирует его, а не «украшает».
Текст заметки «Кража в белом доме» семантически имплицирован. Информативное качество сообщения не прозрачно. В тексте есть определенная последовательность, совокупность речевых единиц (вербальных средств), которая в сочетании с имплицированным смыслом выражает ключевые смыслы публикации.
Определим эту последовательность: «скандал, случился, пропала папка, свидетели, пострадавшая, связывают пропажу, появление кандидата в депутаты, шесть охранников, захват, террористы, подробности, следователи». Читатель, сконцентрировав внимание на ключевых словах, извлекает и ключевые смыслы. Систему таких единиц, соотносимых с основными элементами содержания текста, исследователи называют концептуальным речевым приемом.
В основе концептуального речевого приема лежат «особенности слова, заложенные в языковой системе, разнообразие его значений и связей с другими словами, то, что потенциально есть в языке и отражается в языковом сознании. Смысловые поля слов образуют в определенной комбинации новые смысловые поля. Смысловые альтернативы порождают новые альтернативы. По мнению Н. В. Муравьевой, «текстовая система слов может стать концептуальным речевым приемом только в том случае, если в этой системе «жизнь» слова не будет полностью подчиняться законам языковой системы» (164, 48). «Прежде всего, это будет само значение слова, его смысл. Известно, что основным законом употребления слова является его однозначность в контексте: в каждом отдельном предложении (и, видимо, в одном речевом сообщении) слово обычно имеет одно значение. Однако в составе концептуального речевого приема должны быть слова, нарушающие это правило: они должны «представляться» читателю своими разными смыслами и не только тогда, когда журналист использует одно и то же слово в разных частях текста, но и тогда, когда журналист создает заведомо двусмысленный контекст и мы понимаем слова одновременно в двух значениях» (164, 48–49).
Текст тесно связан с такими внетекстовыми факторами как контекст и подтекст. «Под контекстом понимается система социальных отношений, породившая данный текст, историческое время, в котором существует СМИ, связь текста с этносом, на который он рассчитан, с личностью автора – его биографией, индивидуальной творческой манерой, особенностями его психологии, мировоззрения и мировосприятия. Подтекст – это та социально-нравственная и психологическая подоплека, которая расширяет смысловое поле высказывания, делая завершенную речевую структуру открытой для интерпретации и дальнейшего толкования» (137, 132).
В концептуальном речевом приеме отношение между словами и смыслами гораздо шире, чем ожидается. Изменения создаются целенаправленным извлечением контекстов и формированием подтекста и «... подтекст является категорией текста, а не предположения. Возможность двоякого понимания предложений еще не формулирует концепцию подтекста» (88, 43).
Выискивание подтекста в каждой строке представляется неправомерным, ибо тогда каждое отдельное предложение приобретает отдельные смыслы, которые противоречат общему пониманию текста, его концепту. Подтекст противоположен приращению смысла, которое по своей природе спонтанно и возникает на основе ассоциативных связей, подтекст же тесно связан и «сосуществует» с вербальным выражением и сопутствует ему» (88, 42). У подтекста есть создатель – автор, но не всегда автор планирует именно такой подтекст, который потом предъявляют ему в качестве обвинения в суде. Впрочем, подтекст не может быть предметом судебного разбирательства в силу его искусственной природы. Подтекст, по мнению И. Р. Гальперина, «вовсе не условие правильного понимания, а некая дополнительная информация, которая возникает благодаря способности читателя видеть текст как сочетание линеарной и «суперлинеарной информации» (88, 461).
Рассмотрение подтекста в суде представляет собой спор, диалог между содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной сторонами информации. Первая сторона выражена языковыми знаками и является языковым фактом, вторая – это поток сообщения, вызванный многозвучностью языковых знаков. Они переплетаются, сближаются, противоречат друг другу. Подтекст не оформлен, а следовательно, неопределен. Языковая интуиция подталкивает читателя к такого рода извлечениям, к разрушению первоначальной системы и построению новой, более приемлемой.
Яркой демонстрацией применения концептуального речевого приема, на наш взгляд, будет пример Текста судебного заседания в романе И. Эренбурга «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца». В этой части романа, можно сказать, использованы жанры – судебный очерк и репортаж. Лазик Ройтшванец был привлечен к уголовной ответственности по доносу гражданки Пуке за контрреволюционные действия. Но обратимся к тексту.
«– Однако, прочитав обращение к трудящимся, вы демонстративно выразили свои контрреволюционные чувства».
(Ройтшванец) – Как я мог выразить свои чувства, если я их вообще не выражаю? <...> вы спросите, почему я вздохнул, прочитав это «обращение к трудящимся»? Как я мог не вздыхать? Ведь это же было воззвание для вздохов. <...> Но нельзя меня судить за оскорбление герба и флага, когда там не было ни герба, ни флага, а всего-навсего гражданка Пуке, и то я ее ничем не оскорблял».
Однако Матильда Пуке, женщина с бледно-зелеными меланхоличными глазами и со стажем в девять месяцев, повторила показания, данные ею на предварительном следствии: подсудимый подбежал к воззванию, прочитал его и, нагло расхохотавшись, издал бесстыжий возглас, который, ввиду кампании по борьбе с хулиганством, не подлежит даже воспроизводить. Выслушав все это, Лазик подмигнул председателю:
<...> Я действительно подошел и прочитал. Зачем наклеивают бумажку? Чтоб ее, кажется, читали. После этого я вздохнул: откуда вы знаете, может быть мне стало жалко товарища Шмурыгина? Разве это так просто, умереть от заворота кишок? И потом, я очень хорошо понимаю, что такое надгробная скорбь в масштабе губернского города».
Речь прокурора, товарища Гуревича, была кратка и выразительна:
– Гражданин Ройтшванец – гнилой продукт клерикального оскопления личности. Его заверения, что воззвание было вывешено для каких-то вздохов, всецело совпадают с инсинуациями белогвардейской прессы, в то время как бескорыстные показания гражданки Пуке продиктованы исключительно ее классовой совестью.
<...> Правозаступник, товарищ Ландау, наоборот, отличался многословием:
– Я взвешиваю все факты, и на чашу весов падает его исключительное происхождение. Вы должны обвинить еврейскую буржуазию, создавшую талмудические школы и другие средства порабощения пролетариата, <...> в порыве великодушия победившего класса вы должны оправдать этого несчастного кустаря-одиночку!» (303. 17–19).
В Тексте, который считается стандартным, все вербальные средства должны соотноситься со смысловой структурой, т. е. быть словами стабильной семантики; быть словами устойчивыми, однозначными. Не исключено, что слово с определенным значением в данном контексте может «вырываться» из смысловой ткани, иметь нестандартность и оригинальность. По мнению И. В. Муравьевой, «это скорее недостаток, чем достоинство речевой структуры газетного текста».
С этим утверждением вряд ли можно согласиться. Все зависит от авторской концепции Текста. Из приведенного Текста можно «изъять» примеры нестабильной семантики: «контрреволюционные чувства; воззвание для вздохов; бесстыжий возглас; разве это так просто, умереть от заворота кишок; клерикальное оскопление личности».
Языковые единицы стабильной семантики ожидаемы для читателя и определенного влияния на эмотивную функцию Текста не оказывают.
Смысл языковых единиц нестабильной семантики рождается в самом Тексте, «в единое целое объединяются слова разных тематических рядов, в один тематический ряд иногда стягиваются далекие словесные ассоциации. Тем самым в тексте формируется система единиц, в которой смысловые отношения между элементами, обусловленные языковой системой, изменяются, перестраиваются. Именно в такой системе читатель может уловить смысловые сдвиги в языковой единице» (164, 56).
Неожиданное словосочетание читатель воспринимает как сигнал глубинной семантики – «отъявленный журналист», «из носков Ельцина в портянки Руцкого» и т. д. При наличии в Тексте сигналов авторской концепции вступает в действие интерпретативная функция текста, начинается процесс сопоставления, противопоставления его элементов. Языковое сознание активизируется, читатель ищет коммуникативные интенции автора, смысловые и речевые структуры Текста, заполняет собственной интерпретацией смысловые лакуны, выстраивает оценочную систему.
Как формируется у автора концептуальный речевой прием? «Он может возникать на основе любого элемента тематического ряда, на любой ассоциации в ответ на описываемую ситуацию, предмет, его признаки действия, в том числе и ассоциации ложной, случайной, необоснованной с точки зрения языковой системы, требующей, например, для метафорического значения обязательного сходства существенных признаков двух объектов. Возможна ассоциация не только собственно языковая, словесная, но и предметная. Чем неожиданнее эта ассоциация, чем она менее известна широкому кругу лиц, тем она больше отклоняется от самой частотной реакции на слово и самого частотного толкования смысла слова, тем сильнее, заметнее для читателя концептуальный речевой прием. Вообще, надо сказать, что возможность дать неожиданное осмысление слова у журналиста достаточно велика даже в том случае, если он в построении концептуального речевого приема исходит из языковых значений слова, потому что, как отмечают исследователи, отдельные «смысловые альтернативы» слова хранятся в памяти носителей языка отдельно, связь между ними постепенно ослабевает, но при необходимости она может быть восстановлена» (164, 57–58).
В действие вступают мыслительные категории, которые в Тексте не имеют формальных признаков; они не обнаруживаются путем внутрисистемного анализа, а «идентифицируются при взаимодействии текста с концептуальной системой коммуникантов» (138, 18). Языковые средства служат основным условием экспликации автором и воссоздания реципиентом семантической структуры Текста. Следует отметить, что «смысл слова (его значение) и общий смысл предложения – высказывания имеют принципиально тождественное построение – в их основе лежит суждение, т. е. субъектно-предикатная структура, в которой представлен предмет мысли и приписываемый ему признак. Соответственно описанием смысла любого уровня и любой природы является не набор словосочетаний, но метапредложение или ряд метапредложений (метатекст) <...> смысл, будь то отдельный смысл, смысл слова или смысл предложения – высказывания, являет собой некоторую комбинацию мыслей, отражающую определенный фрагмент действительности» (259, 103).
Участники процесса коммуникации обладают системой индивидуальных знаний, которая нуждается в дискретизации. Знания адресата и адресанта не могут служить объектом вербализации, а потому в этой роли выступает определенная часть индивидуального знания, которую можно обозначить как фрагмент концептуальной системы носителя языка.
«Выбор темы и определение цели публикации, отбор фактов и оценка поведения героя или ситуации, даже композиция материала – в каждой из этих «технологических» операций проявляется отношение журналиста к тем, о ком и для кого он пишет. Моральные критерии пронизывают содержание его работы, и она, таким образом, предстает как деятельность, нравственная по своему характеру» (13, 168).
Концептуальная система адресата определяет его реакцию на эксплицитную и имплицитную структуры Текста, созданием метатекста. «Анализ смысла коммуникативной единицы может и должен учитывать множественный характер личности коммуниканта. Смысл предложения – высказывания (и собственно текста как такового. – Авт.), будучи порождаем человеком говорящим, связан с различными ипостасями его Я. Имея адресный характер, смысл нацеливается говорящим, вольно или невольно, на различные стороны Я адресата» (259, 109).
Газета как средство коммуникации связывает адресата и адресанта, отражает концептуальные системы носителей языка. Примером нестандартной коммуникативной связи и отношений автор – читатель может служить судебное дело в Белореченском городском суде. Процитируем все необходимые документы:
«В обойму – и вперед!», или рассказ о том, как несколько заместителей главы города Белореченска и инструктор контрольно-аналитического управления администрации края за рюмкой водки решали, как наказать тех, кто принял участие в районной учредительной конференции «Отечества» (Кондратенко).
Время действия: суббота, 20 февраля, примерно 14–16 часов, после районной учредительной конференции.
Место действия: одно из питейных заведений г. Белореченска.
За столом: первый заместитель главы администрации аналитического управления администрации Краснодарского края, заместитель главы администрации, управляющий делами администрации города и еще один из высокопоставленных чиновников города. Назовем его просто Икс.
За столом идет разговор, видимо, уже не после первой рюмки.
(Текст дается в сокращении).
Икс:
– Ну, давай... Мы не переговорим все это. Мы не договоримся. Мы, вот он правильно сказал, к власти пришел Ш. благодаря мне, благодаря тому, что я снял свою кандидатуру. Это сто процентов. Я ему говорил, не ищи ты во мне, что я тебя подсиживаю.
Т.:
– Подождите, подождите, вот вы сейчас отойдете от стола, наберете телефон (Ш), и он сейчас сюда приедет. Если я позвоню, он может не приехать.
Икс:
– Он пришел к власти благодаря мне.
О.:
– Да, это точно.
Т.:
– Я говорю про другое. Если вы сейчас выйдете к телефону, позвоните ему, он приедет, где бы он ни был, лишь бы был дома.
К столу подходит официантка. Ей предлагают произнести тост в их честь. Официантка:
– Вот так и нужно. Дай Бог, чтобы вы были, достигли того, чего вы хотите, и даже сверх того. Чтобы вы никогда не были новыми русскими, потому что их все стреляют.
Т.:
– Здесь таких нет. Мы и ночью и днем спокойно ходим и назад не оглядываемся.
Икс:
– Да не... Он полной информацией не владеет.
О.:
– Начальником управления сельского хозяйства. Все! П...ц! Ты понял?
Т.:
– Все, я не хочу (наверное, это слышать). Давайте выпьем!
Чокаются.
О.:
– Я сказал вам то, что хотел сказать. Я это знаю, кроме того, я вам скажу, меня уговаривали, я вам скажу, перейти на другую работу...
О.:
– Меня уговаривали перейти на другую работу, да как бы избрать главой другого человека. Мы не будем называть его фамилию. Поддерживать и всего прочего. Я сказал, что ни х-я ничего из этого не будет. Все.
– Просто я говорил одно и буду говорить. Будем держаться вместе выиграем. Не будем держаться – проиграем. Все!
О.:
– Будем вместе. Мы выиграем.
Икс:
– Овладеем массами...
О.:
– Будем делать так. А не будем? Будем вот так.
Ш.:
– И будем владеть массами.
Т.:
– Поэтому сейчас времени нет.
Ш.:
– И будем владеть массами и ре-гу-ли-ро-ва-ть!
Икс:
– Это..., э, владеем властью. Упускать такую возможность, как это ГКЧП делало дрожащими руками...
Икс:
–... мы должны объединиться...
Икс:
– Мы должны сказать да! Мы власть! Вот! Власть в городе! Они должны крутиться вокруг нас.
О.:
– Слабинку дал. Мог бы не сегодня – завтра вызвать Б. и сказать: я тебя завтра увольняю за то, что ты послал туда (на конференцию) директоров школ.
Ш.:
– Он этого не сделает.
О.:
– Так мы сделаем.
Икс:
– Я это сделаю...
О.:
– Мы это должны сделать!
Ш.:
– В обойму – и вперед!
О.:
– Вот тогда они будут перед тобой, перед нами кланяться. Я не потому, что он мне хороший или ты мне хороший. Нет, нет.
Икс:
– Я воспитал одного, еще и шефа воспитал. Я показал, как надо себя вести.
Ш.:
– Да! Он же сейчас ходит на согнутых коленках... Да!
Икс:
– Вот так и надо вести себя...
О.:
– Все правильно!
От редакции: Мы сознательно не называем имя одного из действующих лиц, так как склонны думать, что человека просто подставили, и мы имеем тому доказательства.
Нужен ли комментарий? Наверное, читателю и так все понятно. Из этого фрагмента застольного, зачастую нелитературного разговора, ясно видно, как будут наказывать руководителя за то, что он разрешил присутствовать своим подчиненным на учредительной конференции Белореченского отделения краевого «Отечества».
Сегодня так делают с одним, а как завтра будут поступать с другими? Как сказали сами участники застолья, у них власть. Они все вместе, и все должны крутиться вокруг них. Вот только вопрос: у кого скорее голова закружится?»
Концептуальная система данного разговора основывается на функциональной базе индивидуального и социального поведения участников диалога, отражает повседневную предметно-практическую деятельность, С-модель индивидуального сознания. <...> в общем виде С-модель есть некоторая мыслительная структура, существующая в сознании личности. Ее компонентами являются представления и понятия о предметах и явлениях внешнего мира и отношения между ними, закодированные в некоторых случаях вербальными или другими знаками (138, 23). С-модель есть идеальная модель в индивидуальном сознании, в которой индивид реализует личностную экспликацию данных (представлений, мнений, знаний) о всевозможных фрагментах внешнего мира, включая при этом в отражение и систему абстрактных отношений между классами объектов.
Итак, С-модель субъектов действия была отражена на страницах белореченской газеты «Огни Кавказа», причем редакционный комментарий не содержал имплицитных смыслов. Глубинная семантическая структура текста не была выражена, газета ориентировалась на фоновые знания читателей. Реакция читателей выразилась в потоке откликов на эту своеобразную публикацию, а реакция субъектов действия – в исковых заявлениях в суд. Сами исковые заявления представляют собой яркие образцы метаязыкового прочтения первого текста и формирования второго.
В Белореченский районный суд от истца: А.
Ответчик: редакция газеты «Огни Кавказа».
Заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда.
27 февраля 1999 года в субботнем номере газеты «Огни Кавказа» была опубликована статья. Предыстория указанной статьи такова:
20 февраля 1999 года мы, А., О., Т., Щ., собрались в кафе в неформальной обстановке, как товарищи. Нами велся разговор, выдержки из которого приведены в публикации в газете «Огни Кавказа» вышеназванной статьи. При этом опубликованы слова моих собеседников с указанием их фамилий, а также мои слова, хотя фамилия моя не указана, а я сам прохожу в статье под псевдонимом «мистер ИКС». Разговор состоялся во внерабочее время (была суббота), поэтому носил неофициальный характер. Более того, так как мы при этом выпивали, а нас связывают товарищеские отношения, свои слова мы в официальном смысле не контролировали. Проскакивали и нецензурные выражения, которые, однако, никто, кроме участников беседы, слышать не мог. В процессе беседы Щ. достал из кармана куртки диктофон. При этом он включил его и сказал, что может всех нас записать, вот «будет смеху-то». Я сказал ему, что шутка не уместна, потом и Т. попросил убрать диктофон, что Щ. и сделал. Однако, что впоследствии была произведена запись разговора, ни я, ни мои собеседники не знали. Щ. позже пояснил нам, что и он не догадывался о записи, умеет Щ. обращаться с диктофоном. Через несколько дней он сказал мне, что вечером 20 февраля у него пропал диктофон, что, скорее всего, это произошло в то время, когда мы покидали на короткое время кафе.
В газете «Огни Кавказа» с огромным удивлением я прочитал публикацию части нашего разговора. Я сразу понял, что этот разговор был все-таки записан на пленку. Моего согласия на эту публикацию никто не спрашивал. По словам Щ., а также Т., О., ими также не было дано согласие на эту публикацию. Таким образом, публикация была осуществлена в нарушение пункта 5 статьи 49 Закона РФ «О средствах массовой информации», обязывающего журналиста получить согласие на распространение в СМИ сведений о личной жизни граждан от самих граждан.
В соответствии со статьей 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Право на частную жизнь выражается в свободе общения между людьми на неформальной основе, в том числе и в сфере товарищеских и дружественных связей. Образ мыслей, политическое и социальное мировоззрение также относятся к проявлениям частной жизни, следовательно, они находятся под конституционной защитой. Как видно из публикации, именно к сфере нашей частной и личной жизни относился наш разговор. Мы имеем право свободно собираться и высказывать свое личное мнение о должностных лицах органов местного самоуправления, об общественных объединениях и т. д.
Указанные нарушения моих прав выразились в следующем: Моей деловой репутации нанесен огромный ущерб. В заголовке статьи «В обойму – и вперед!» говорится о намерении участников разговора наказать тех, кто принял участие в районной учредительной конференции «Отечества» (Кондратенко). При этом редакция намеренно искажает факты. Во-первых, я высказал свое мнение, как надо было бы поступить с начальником управления образования администрации города за то, что он послал директоров школ на конференцию «Отечества». Однако это мнение является частным, неофициальным. Во-вторых, редакция газеты «Огни Кавказа» не задалась вопросом о том, что могут ли быть претворены в жизнь наши высказывания, в том числе и по поводу прошедшей конференции «Отечества», реально ли выполнить все то, о чем мы говорили. Разговор на конфиденциальной основе, тем более частный характер еще не является официальным мнением, и об этом журналисты должны прекрасно знать. В частной жизни человек может иметь одно мнение, но в официальной обстановке, помимо личных убеждений, он должен руководствоваться и законом, и профессиональной этикой, и указаниями руководства.
Газета «Огни Кавказа» является общественно-политической газетой, поэтому ее мнение влияет непосредственно на общественное мнение жителей города и района. Естественно, что действия редакции сказываются и на отношении к должностным лицам органов власти, в том числе и ко мне, как к представителю органа местного самоуправления. Теперь же из-за публикации мои деловые качества ставятся под сомнение, моя способность выполнять должностные обязанности привязана к моей частной жизни, ставшей достоянием гласности. Более того, мой авторитет, как руководителя городского масштаба, нарушен безответственностью, беспринципностью редакции. Мне уже приходится не только читать на страницах «Огней Кавказа» гневные реплики, но и выслушивать их и по телефону, открытому для всех, и в личных беседах.
Публикацией была нарушена моя честь и доброе имя. Выдержки из приведенного разговора на страницах газеты, в том числе и ненормативной лексики, вынесение этого на общегородской и районный уровень, конечно, не делает чести мне, как участнику разговора, впрочем, и редакции тоже. Слово, произнесенное за столом, и слово, которое слышат все, сильно разнятся по своей нагрузке. Редакция сделала так, что нецензурно выразились мы не только в кругу друзей, но и на весь город. Уже сейчас мы испытываем отголоски этой публикации, очень неприятные для нас, в дальнейшем положение может только усугубиться. Содержание носит явно оскорбительный характер в отношении меня, Т., Щ. и О, известные всему городу люди представлены как какие-то бандиты. Редакция не стесняется печатать слова, которые в нормальном обиходе не употребимы. Обвинив нас в матерщине в редакционной статье «Вот и дождались...» (газета за 16 марта), редакция дает слово гражданам, чья лексика ничуть не лучше нашей.
Работниками редакции нарушен принцип уважения прав, законных интересов, чести и достоинства граждан при осуществлении профессиональной деятельности, установленный статьей 49 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».
Я не могу в настоящее время принимать активное участие в общественной жизни из-за непрекращающихся требований объяснений моих слов. В разговоре, который редакция газеты незаконно напечатала в газете, я говорил нелицеприятные слова в отношении главы города Белореченска. Так как он услышал их не от меня лично, а прочитал в газете, у него возникло естественное неприятие моей позиции. Мне пришлось иметь с ним тяжелые объяснения и только его понимание происшедшего, его осознание незаконности действий газеты могло избежать дальнейшего разрастания конфликта. Моральный вред, причиненный мне редакцией газеты «Огни Кавказа», я расцениваю в 100000 (сто тысяч) рублей.
Исковое заявление Щ. (в сокращении).
На работе я веду прием граждан, однако, многие посещения людей оставляют неприятный осадок в моей душе: я постоянно вспоминаю о том, что о событиях, происшедших 20 февраля, знают все, и многие судят о них с точки зрения газеты «Огни Кавказа».
Более того, так как запись была произведена по моей неосторожности, мне было очень стыдно перед моими товарищами, которые из-за последующей публикации оказались в тяжелом положении. Полагаю, что редакция газеты «Огни Кавказа» обязана компенсировать мои нравственные и физические страдания в размере 95000 (девяноста пяти тысяч) рублей.
Исковое заявление О. (в сокращении).
Редакция газеты «Огни Кавказа» не только незаконным образом опубликовала наш разговор, но и извратила его смысл, ввела читателей в заблуждение. В заголовке к статье редакция пишет о том, что мы решали, как наказать тех, кто принял участие в районной учредительной конференции «Отечества» (Кондратенко). Однако, во-первых, наш общий разговор касался совершенно других тем. О конференции «Отечества» было сказано всего лишь несколько слов. Во-вторых, если прочитать внимательно выдержки из нашего разговора, то станет ясно, что мы говорили не об участниках конференции, а только лишь о начальнике управления образования администрации города. При этом высказано лишь наше частное мнение о том, как мог бы поступить глава города Белореченска. В-третьих, реальной возможности привлечь к ответственности («наказать» по словам редакции) никто из участников разговора не имеет.
Действиями редакции «Огней Кавказа» нарушены мои честь и достоинство. Пренебрегая всеми нормами нравственности, редакция пошла на то, что опубликовала на страницах газеты нецензурные выражения, употребленные мною. При этом публикуются отклики, которые направлены против меня и моих собеседников, пишется: «Возмущению нет предела, ведь временно получившие власть испытания ею не выдерживают, возомнив себя «повелителями» на Белореченской земле» («Огни Кавказа» от 04.03.99 г.). Далее, в том же номере публикуется статья «С куражом и матерком», в которой говорится: «Я прочитала на страницах газеты разговор местных чиновников мистера Икса, Т., Щ. и О. в момент их отдыха. И пришла к выводу, что вместе с физическим расслаблением от выпитого спиртного у этих людей разжижились и мозги тоже... С какими бессовестными глазами они будут руководить нашим городом и дальше?». Редакция поставила себе целью довести до сведения официальных органов мое поведение, слова и мнения. Теперь мне приходится оправдываться за поступок, который стал неблаговидным только лишь потому, что стал достоянием гласности и вызвал нездоровый ажиотаж, к чему очень стремилась газета.
Все вышесказанное вынуждает меня прибегнуть к судебной защите. Причиненные мне нравственные и физические страдания незаконными действиями редакции газеты «Огни Кавказа» я оцениваю в 100000 (сто тысяч) рублей.
Информация (из прокуратуры) о выявленных нарушениях закона
В газете «Огни Кавказа» за 27 февраля 1999 года опубликована статья под заголовком «В обойму – и вперед!». В этой статье приведен отрывок аудиозаписи разговора, состоявшегося между мистером «Икс», О., Т., и Щ. в кафе в выходной день. В связи с этой публикацией от указанных участников опубликованного разговора в межрайонную прокуратуру поступило заявление с требованиями привлечения редактора газеты Золотова Б. В. к уголовной ответственности.
По результатам анализа публикации «В обойму – и вперед!» на соответствие требованиям норм действующего законодательства считаем, что редакцией газеты и ее редактором допущены существенные нарушения закона, которые заключаются в следующем.
Газетой опубликован частный разговор должностных лиц, однако в статье не указано, каким образом аудиозапись разговора названных лиц оказалась в распоряжении редакции газеты, каким образом эта запись производилась и с чьего разрешения частный разговор был передан гласности на страницах газеты.
Согласно ч. 1. ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни.
Частная жизнь (личная жизнь) представляет собой жизнедеятельность человека в особой сфере и подразумевает под собой, в том числе и право на свободу высказываний вне сферы служебных отношений.
Из оказавшейся в распоряжении редакции и опубликованной на страницах газеты аудиозаписи однозначно следует, что записанный разговор велся в неформальной обстановке.
Полагаем целесообразным обратить внимание также на то, что частная беседа граждан Российской Федерации, содержащая к тому же нецензурные высказывания, была предана гласности фактически дословно, что, по нашему мнению, является унижающим честь и достоинство не только участников разговора, но и граждан, прочитавших эту публикацию, что также является недопустимым.
«Решение Белореченского районного суда 27 апреля 1999 года
В обоснование иска истцы пояснили, что незаконным опубликованием беседы, где они допускали бранные слова, и комментарием к статье им дана отрицательная морально-этическая оценка со стороны общественности, в связи с чем они перенесли нравственные и физические страдания, т. к. они являются должностными лицами, давно работают в данной местности, имеют определенный авторитет и для них это имеет большое значение.
Представитель редакции иск не признал и пояснил, что беседу в общественном месте лиц определенного должностного положения и касающуюся в определенной степени общественной жизни города и района нельзя отнести к частной жизни.
Исследовав доказательства, суд считает, что иски следует удовлетворить частично.
По мнению суда, дружеское застолье в кафе «Ласка» и беседа истцов не выходила за пределы их круга и является фактом их личной жизни.
В связи с указанной публикацией редакцией начали печататься отклики читателей, дающих отрицательную характеристику личностей истцов, в связи с чем они переносили и переносят нравственные страдания. Переносят истцы переживания и в быту – при общении с родными и знакомыми.
Поэтому, поскольку данные страдания были причинены редакцией, газета виновна, хотя публикация соответствует действительности, то в соответствии со ст. ст. 151, 1099, 1101 ГК РФ в пользу истцов должна быть взыскана компенсация морального вреда в денежном выражении в неполном размере с учетом степени вины причинителя вреда, степени распространения данной информации, положения истцов.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 191–197 ГПК РСФСР, суд решил:
Обязать редакцию газеты «Огни Кавказа» Белореченского района в течение 10 дней после вступления решения в законную силу опубликовать в субботнем номере на первой странице тем же шрифтом, что и публикация «В обойму – и вперед!» извинение, опровержение и комментарий в суммированном объеме строк, не превышающем объем указанной публикации».
В данном решении отразилась телеологическая (заранее предопределенная) структура деятельности, «которая проявляется в связях между ее средствами и результатами и уж совсем отчетливо – в соотношении практик и жизненных планов с «уровнем благополучия», проектируемых индивидами и сообществами» (229, 48).
А дело обстояло так. Истцы собрались в кафе, выпили и стали обсуждать политическое положение в городе. Планировали отстранение от должности начальника управления образования, «овладение массами и регулирование ими», «воспитание» главы администрации. Разговор записал на диктофон один из истцов (участник застолья), что он и признал в суде. Кстати, он же пытался записать разговор с политическими оппонентами, бывшими в тот вечер в том же кафе.
Опустим некоторые несущественные детали и скажем, что потом этим диктофоном «играли в футбол» в кафе, а пленка с записью «интересного разговора» попала в редакцию газеты «Огни Кавказа».
В редакции расшифровали запись, сочли информацию общественно значимой и решили опубликовать, чтобы жители района знали, что замышляют чиновники администрации. В истории журналистики такие случаи уже были. Вспомним, к примеру, Уотергейт, а также публикации телефонных разговоров в российской прессе.
После факта публикации диктофонной записи в «Огнях Кавказа», участники разговора обратились в суд, ссылаясь на ст. 23 Конституции, запрещающей вмешательство в частную жизнь. Вот здесь-то и начинаются юридические и логические казусы.
Разговор записывал один из истцов, а не журналисты. Истцы подтвердили, что разговор не носил личного характера, что Текст в газете полностью соответствовал действительности, что никаких карательных санкций со стороны главы администрации не последовало, что они даже не обращались в редакцию с требованием опубликовать их ответ.
Более того, в газетном Тексте один из истцов был определен как Икс, т. е. не идентифицирован, и по действующему законодательству он не может быть истцом в суде, поскольку этим правом наделен только гражданин, а не полностью скрытый субъект.
Суд принял решение: «хотя публикация соответствует действительности, но в соответствии со ст. 151, 1099, 1101 ГК РФ в пользу истцов должна быть взыскана компенсация морального вреда в денежном выражении в неполном размере с учетом степени причинителя вреда, степени распространения данной информации, положения истцов – А. является первым заместителем главы г. Белореченска, Щ. – управляющий делами администрации, О. – инструктор организационно-аналитического управления администрации Краснодарского края, а также требований разумности и справедливости».
Далее суд решил «обязать редакцию газеты «Огни Кавказа»... опубликовать извинение А., опровержение О., и комментарий Щ., в суммированном объеме строк, не превышающем объем указанной публикации». Взыскать по 1 тысяче рублей в пользу каждого истца».
Такие решения, к сожалению, не являются пикантными исключениями. Суды считают, что лучше по минимуму удовлетворить обе стороны, чтобы и «истцы были сыты, и газеты целы», и применяют нормы бытовой логики и понятия бытовой правды, а нормы закона используются в качестве декораций судебного процесса.
Все Тексты являются отражением реальной ситуации с разных точек обзора. Последующие Тексты, кроме первого, – это репрезентации, т. е. конструкции, зависящие от обстоятельств. Конструирование всех репрезентаций определено задачами и подготавливает решение, которое сторонам нужно найти. Система рассуждений сторон непротиворечива, несмотря на противоположность целей сторон. «Рассуждать – это продуцировать умозаключения. Существует два класса рассуждений с точки зрения их направленности: «рассуждения, нацеленные на эпистемологию, и рассуждения, нацеленные на прагматику» (221, 9).
Все восемь Текстов являются одним большим Текстом, который включает еще отклики читателей на первый Текст. Всю совокупность Текстов можно еще обозначить как диалог в определенном временном отрезке. Структуру диалога следует представить следующим образом: Текст № 1 – это информация редакции словами самих участников разговора в кафе. Текст эксплицирован. В нем имплицитно заложена мысль, которую затем высказали читатели газеты – низок нравственный и культурный уровень наших руководителей, им не место в руководящих креслах.
Тексты 2, 3, 4 (исковые заявления) представляют собой метаязыковую часть диалога, в который кроме редакции, истцов включается суд, прокуратура, адвокаты. Текст № 5 (информация из межрайонной прокуратуры) не что иное, как метатекст, в основе которого лежит правовое видение события.
Диалог развивается по восходящей и в высшей точке, кульминационном пункте, он завершается решением суда, которое включает в себя все диалогические отношения: судебное следствие с сопутствующими ему элементами – опросы сторон, свидетелей, оглашение документов, прения.
Текст № 6 подводит правовую черту в диалоге. (Мы намеренно опустили кассационную жалобу, определение коллегии по гражданским делам, что, собственно, тоже является составными элементами диалога, чтобы не осложнять структуру, не делать ее громоздкой).
Текст № 8 представляет собой анализ действий суда в отношении газеты. Метатекст с включением в него самостоятельных элементов (нормы закона), которые известны только кругу специалистов.
Текст № 1 в структуре диалога (общего) есть иллокутивный акт, т. е. произнесенное высказывание, которое, сжав предельно, можно выразить в следующем виде: участники застолья – люди с пониженными моральными качествами. Тексты № 5 и 7 есть иллокуция, т. е. та часть произнесенного высказывания, которая прямо или косвенно свидетельствует о намерениях адресанта. И, наконец, остальные Тексты № 2, 3, 4, 6, 8 есть перлокуция, т. е. действия и поступки со стороны адресатов, непосредственно и однозначно обусловленные данным высказыванием» (284, 7).
Диалог (весь текст) отражает коммуникативную деятельность его участников, конкретные темы диалога. В нашем случае это диалог дистантный, участники – редакция и истцы – встретились непосредственно только в суде, остальные части диалога проходили вне пределов видимости. Этот диалог – газета/истцы – осложнен общей и персональными темами. Последние зависят от целого ряда факторов: «от тематики общения, состава участников коммуникации, их социальных ролей, представлений партнеров о друг друге, знаний о мире, ценностных ориентаций» (33, 84).
Представим наш диалог в виде схемы:
Событие
Локутивное высказывание
Перлокутивный акт
| Текст № 6 Судебное решение | Текст № 8 | |
Во всей совокупности текстов или в общем Тексте существуют три класса ментальных деятельностей, внутри которых есть подразделения в соответствии с критериями: понимания, рассуждения, оценивания. Различные деятельности, составляющие часть этих трех классов, достаточны для осуществления шести функций:
– сохранение перманентных когнитивных структур: знаний, верований;
– выработка решений о действии применительно к задаче (это касается истцов и суда);
– конструирование репрезентаций (переходных когнитивных структур); формирование умозаключений, имеющих эпистемологическую (репрезентации) или прагматическую (решение о действии) направленности;
– конструирование знаний;
– регуляция и контроль активности (221, 8).
Все составные части и сам Текст в целом, кроме коммуникативной функции, приводят в движение функцию ментальной активности. При этом структура работы с Текстом меняется. В фазе доступа к значениям происходит селекция ряда значений в зависимости от того, что известно о ситуации. Адресаты вычленяют, синтезируют смыслы, порождаемые семантическим рядом, так и сжатым до предела семантическим ядром, которые становятся языковым выражением коммуникативного намерения автора. Анализ поверхностной структуры Текста дает возможность определить концептуальный ряд. «С психологической точки зрения концепт выявляет функцию категоризации. Можно даже сказать, что он позволяет говорить об одном и том же объекте на разных уровнях общности, а не только на уровне самом специфическом, т. е. уровне физической сущности. Концепт – это базовая когнитивная сущность, позволяющая связывать смысл со словом, которое мы употребляем» (221, 15).
Концепты, использованные газетой, лежат в глубинной семантической структуре Текста № 4 и в редакционном комментарии: чиновники районной администрации решают дела района, у чиновников есть власть и все должны «крутиться вокруг них», имплицированная оценка легко извлекается – персонажи публикации должны быть уволены. Текстам 2, 3, 4 предшествовала читательская реакция, в основе которой лежит понимание, рассуждение, оценивание. Понимание базируется на дискурсе, т. е. предыдущих газетных Текстах (публикации о недостатках в деятельности районных чиновников), Текстах в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами. Под дискурсом здесь понимаются различные виды актуализации формальной текстовой конструкции, рассматриваемые с точки зрения ментальных процессов. Предыдущие «речи, погруженные в жизнь», ориентируют читателя в его рассуждениях о предложенном ему газетой событии. Процессуальный характер означивания получает отражение на ступени нахождения «смысла смысла», который в свою очередь является «отсылкой от одного означающего к другому».
Редакция вместе с читателями, приславшими свои отклики в газету на Текст № 1, конструируют текст, который можно обозначить как Текст № 1+N. Диалог газеты с читателями происходит в плоскости конструирования репрезентаций (переходных когнитивных структур) и формирования умозаключений, имеющих эпистемиологическую (репрезентацию) и прагматическую (решение о действиях: «этим чиновникам не место в администрации района) направленность. Газета и читатели одновременно подсказывают друг другу во что «разумно верить в этой ситуации» (63, 90). Создается текстовой и ментальный фон, в котором есть контекст и подтекст – у чиновников двойные стандарты поведения, нравственный уровень этих личностей крайне низок, они думают только об удержании власти в своих интересах, чтобы сломать карьеру любому руководителю, занимаются интригами вместо дела и т. д. На этом этапе диалога (газета – читатель) началось воплощение партикулярной схемы. «Конструирование репрезентации через партикуляризацию схемы взывает, как правило, к знаниям в памяти: оно состоит в селекции схемы и в замене переменных в схеме на специфическую информацию, пригодную к ситуации (в нашем случае критическим откликам в газете на информацию прокурора. – Авт.). Этот процесс направляется знаниями. Результатом является партикуляризованная схема (партикулярный – отдельный, частный) (221, 51).
«Конструирование концептуальной структуры запускает, главным образом, умозаключения, и оно направляется информацией, полученной из текста и порядком, в котором подается эта информация. Результат – реляционная сеть (реляционный – донесенный, описание, описательный). Сконструированные связи идут либо от частного к общему, либо от общего к частному» (221, 51).
Событие (застолье чиновников) как частное было выражено в общее, пока еще имплицированное, т. е. в предыдущий текст-фон мировосприятия читателей (все чиновники – бюрократы и думают только о себе); дальнейшее построение конструкции шло по принципу от общего к частному, где частным был вопрос: нужны ли нам такие чиновники?
Процесс понимания означает создание партикуляризованной схемы. Схема «редакция – читатели», созданная участниками диалога, была однозначной, и ей не хватало своей противоположности, чтобы диалог стал равноправным. Оппоненты стали участниками диалога со своей партикуляризовапной схемой. В исковых заявлениях в суд о защите чести и достоинства они заменили переменные в первой схеме элементами своего видения ситуации. Первая схема была уже идентифицирована, в ней содержалась информация, точнее информационное поле со стабильной и нестабильной семантикой, имплицированный смысл Текста № 1 был эксплицирован в Тексте 1+п, что давало оппонентам возможность широкой интерпретации всего Текста (№ 1 и 1+п). При этом интерпретация позволяла расставлять элементы на подобающее им место в схеме. «Схемы могут быть выбраны непосредственно, исходя из названия, которое служит в качестве этикетки. Это происходит в том случае, когда текст имеет название или формулировку, содержащийся термин, позволяющий приблизиться к схеме. Этот способ селекции соответствует первому варианту использования схемы: приписывать значение элементам текста.
Схема может быть выбрана, начиная с ее содержания... Схемы действия имеют структуру, которая, по крайней мере, отчасти является иерархической: для семантической сети функционирования, так же как и для сети свойств, один элемент может вызывать и запускать другой элемент, более общий, чем он сам, тот, который расположен кверху от него.
...второй вариант: делает возможным интеграцию специфических предложений рассказа в более общее сообщение. Схема позволяет увидеть совокупность действий как способ реализации более общего события (221, 54–55).
Тексты 2, 3, 4 оппозиционной партикуляризованной схемы являются деконструкцией первой схемы. В исковых заявлениях «смысл смысла» первой схемы нивелируется новым «смыслом». К примеру, «разговор состоялся во внерабочее время (была суббота), поэтому носил неофициальный характер». Изменен аргумент-предикат. Следующий пример: «... так как мы при этом выпивали, а нас связывают товарищеские отношения, свои слова мы в официальном смысле не контролировали». Аргумент-предикат в тексте следующий: «слова в официальном смысле (следовательно, есть и неофициальный смысл) не контролировали», «проскакивали и нецензурные выражения (это, видимо, и есть неофициальный смысл). Подтвердив все детали события, истец в Тексте № 1, декодировал первую партикуляризованную схему, и представил суду свой код: «... редакция намеренно искажает факты, ... я высказал свое мнение, ... мнение является частным, неофициальным, ... в частной жизни человек может иметь одно мнение, но в официальной обстановке, помимо личных убеждений, он должен руководствоваться и законом, и профессиональной этикой, и указаниями руководства, ... мой авторитет как руководителя городского масштаба нарушен безответственностью, беспринципностью редакции, ... известные всему городу люди представлены как какие-то бандиты, ... редакция не стесняется печатать слова, которые в нормальном обиходе не употребимы, ... обвинив нас в матерщине, ... я не могу в настоящее время принимать активное участие в общественной жизни из-за непрекращающихся требований объяснений моих слов».
Переработка Текстов № 1 и 1+п осуществляется циклами, с учетом будущего судебного разбирательства, в котором предполагается либо должно предполагаться, что обстоятельства, сообщаемые в показаниях (Тексты № 2, 3, 4), непременно правдоподобны. Выделяются препозиции (т. е. вышеперечисленные), которые будут сохранены в оперативной памяти для дальнейшей обработки, все другие переводятся в эпизодическую память текста, в область нестабильности отношений.
Ярким примером «агрессивной» переработки редакционного текста могут служить исковые заявления (Тексты № 3, 4). Рассмотрим эти «агрессивные» препозиции: «воспользовавшись незаконными методами сбора и распространения информации, ... сам факт публикации опорочил мою честь и достоинство, ... распространены порочащие меня сведения, не соответствующие действительности, ... многие посещения людей оставляют в моей душе неприятный осадок, ... многие судят о событиях с точки зрения газеты «Огни Кавказа», ... редакция незаконным образом опубликовала наш разговор, извратив его смысл, ввела читателей в заблуждение (редакция опубликовала разговор дословно, а поэтому извратить его смысл не могла. – Авт.), ... преподнесла как некий разговор, ... пренебрегая всеми нормами нравственности, опубликовала на страницах нецензурные выражения, употребленные мною».
«При конструировании макропозиций используются две операции: сгущение и оценивание валидности. Сгущение имеет три правила:
– правило уничтожения: вычеркнуть всю пропозицию, которая не является либо условием для интерпретации другой пропозиции, либо следствием из макропропозиции;
– правило генерации: заменить серию пропозиции на одну пропозицию, для которой каждая из первых является партикуляризацией;
– правило конструирования: заменить совокупность пропозиций одной пропозицией, для которой первые являются обычным условием, или обычной составной частью, или обычным следствием.
«Если допустить, что результат есть категория соотносительная со способом реализации, то это правило, как правило генерализации, есть правило абстракции.
Оценивание валидности пропозиций осуществляется, начиная с приложения к тексту суперструктуры, определяющей общее категориальное построение, к которому принадлежит перерабатываемый текст» (221, 57–58).
Между всеми Текстами, входящими в общий Текст (редакционно-читательский, исковые заявления, судебное решение и т. д.), существуют отношения когерентности (сцепление, связь). В Текстах исковых заявлений произведена селекция валидных отношений, т. е. таких отношении, которые более всего связаны с контекстом первой части Текста.
Макроструктуры Текстов 2, 3, 4, 5 были сконструированы после прочтения Текстов № 1 и 1+п. В ходе конструирования образован базовый Текст, первоначально имплицированный, затем вступила в действие процедура интеграции, в ходе которой началась переработка базового Текста путем комбинации значений элементов из активного и пассивного запаса знаний авторов. Ряд значений из базового Текста входят в диссонанс с элементами предшествующего Текста и элиминируются; значение когерентные с контекстом усиливаются, а некогерентные ослабляются – «извратила смысл разговора, ввела читателей в заблуждение» и т. д. Поскольку конструкция Текстов № 2, 3, 4 не подразумевает равновесия, постольку в ход пускается деятельность умозаключения, являющаяся в значительной мере произвольной – «мне приходится отчитываться за поступок, который стал неблаговидным только лишь потому, что стал достоянием гласности и вызвал нездоровый ажиотаж, ... мой авторитет как руководителя городского масштаба нарушен безответственностью, беспринципностью редакции».
Сами Тексты и описанная в них ситуация являются образцами ситуации. Образ первой ситуации (Тексты № 1 и 1+п) изначально были заданы и не предполагали редукции. В Текстах № 2, 3, 4 важны были «подвижные черты» ситуации. Эпистемологическая ситуация становится предметом описания, что приводит к семантической нестыковке.
Ситуация А, т. е. Текст № 1, представляет собой фрагмент «мира», выделенный из общего события: конференция, разговор в кафе, диктофонная запись, интенциональный характер разговора, реальная ситуационная семантика. Ситуация А (в кафе) вошла в противоречие с понятием «мир», в котором сконцентрированы категории честность, нравственность, альтруизм, преданность делу, чистота языка и т. д. Ситуация А (в кафе) является причиной Текста № 1. «Идея каузальной связанности событий состоит в том, что некоторое свойство субъекта одного события – свойство в самом широком смысле («редакция, пренебрегая всеми нормами нравственности... опубликовала на страницах газеты нецензурные выражения, употребленные мною») – стимулирует в субъекте другого события определяющую реакцию. По логике вещей, каждому событию, в котором активный субъект каузирует возникновение, становление или развитие какого-либо признака, должно импликативным образом соответствовать событие, центром которого является субстанция, испытавшая воздействие этого субъекта» (202, 109).
Ситуация А и ситуация (кафе) стали градуироваться другими участниками события. «Градуированность знания задает множественность интерпретаций ситуации, а следовательно, и спектр возможных, ментальных миров, протяженных по эпистемической шкале» (202, 111). В «мире» газеты, «мире» читателей, «мире» истцов, суда, прокуратуры действуют «свои» законы, «свой» язык и логика. Они-то и формируют собственную семантику, естественно градуированную по линии выделенности причин из каузуального фона, определенности. Эпистемический фактор регулирует жизненную практику, ограничивает поведение, в том числе и вербальное. Эпистемические «пробелы», возникающие на пути осмысления каузальных ситуаций, мешают полноте мотивировок. Незнание вуалируют, о нем не сообщают, к знанию всегда апеллируют»... при этом «тот или иной «образ» ситуации, взятый в контексте возможного мира, «схвачен» средствами обслуживающего этот мир языка» (202, 112). Обратим свое внимание на Текст № 5 (информация из прокуратуры) – «редакцией и ее редактором допущены существенные нарушения закона», «... полагаем целесообразным обратить внимание на то, что частная беседа граждан Российской Федерации, содержащая к тому же нецензурные высказывания, была предана гласности фактически дословно, что, по нашему мнению, является уничижающим честь и достоинство не только участников разговора, но и граждан, прочитавших эту публикацию, что также является недопустимым»..., «информация направляется администрации города для сведения и принятия мер в целях недопустимости подобных нарушений Конституции РФ «О средствах массовой информации» на страницах газеты «Огни Кавказа». Семантика «образа» ситуации, начавшаяся с «высокой ноты» – «существенные нарушения закона» – резко снижается в конце – «для сведения и принятия мер». Для прокуратуры неполнота знания о субъекте каузации приводит к неопределенности ее Текста и невыделенности его из каузального фона, к переводу в сферу смутных понятий. Если редакция «существенно» нарушила закон, то должна нести «существенную» ответственность, и прокуратура вправе использовать властные рычаги. Она же меняет логическую последовательность рассуждений и создает вялую партикуляризованную схему, в которой первичные компоненты погашаются, а квалификация нарушения переводится в область «полагания» («по нашему мнению», а не по закону), что влечет за собой перемену взгляда на ситуацию в целом. Вместо решительных шагов – рекомендация о принятии мер. Прокуратуре мешает применить закон «мятежная» семантика Текста № 1+п. Истоки такой неопределенности находятся в поле двух типов факторов: можно говорить о неопределенности эпистемической (происходящей от незнания ситуации) и прагматической (когда знают, но не говорят). Первая объективна, вторая субъективна. Основания первой кроются в степени осведомленности пишущего о «мире», второй – в области знаний о прагматической ситуации. Субъекты (истцы) выбрали метод алгоритмизации описания действий, при котором игнорировали в факторе субъекта прагматический момент, располагая при этом множеством способов отвести от себя действия, которые им инкриминировались.
Суд в ходе процесса познания ситуации в качестве «ядерных» выбрал презумпции: опубликован материал без разрешения истцов, беседа носила частный характер, публикация отрицательно характеризует истцов, у них весомое общественное положение, они испытывают нравственные страдания. Процесс познания прошел в «выраженном» формате, четко выражающем интенциональную направленность: хотя сведения и соответствуют действительности, но дают отрицательную оценку влиятельных истцов, то, учитывая «положение истцов», обязать редакцию опубликовать извинения, опровержения, комментарии. В судебной партикуляризованной схеме, к сожалению, не нашлось места минимальному смыслу «понимания проблемы», которая состоит в отыскании интерпретации, позволившей бы определить пространство поиска смысла. «Материальный признак смысла, скрытый от субъекта своей прозрачной очевидностью, состоит в его фундаментальной зависимости от того, что мы назвали «сложным целым идеологических формаций», <...> «смысл слова, выражения, предложения и т. д. (а также Текста. – Авт.) не существует «в себе самом» (т. е. в его прозрачном отношении к материальности означающего), а определяется идеологическими позициями» (217, 265).
При использовании схемы «извлечения смысла» в процессе партикуляризации все возможные типичные категории, примеры, типичные способы реализации действий, заданных по программе, как правило, отбираются благодаря потребности в партикуляризации, а также необходимости выбора типичного случая. Эта потребность осуществляется из-за того, что субъекты действия, т. е. субъекты судебного сценария, умеют хорошо рассуждать только лишь применительно к частным ситуациям, причем «партикуляризованная репрезентация ситуации строится на основе пропозициональной репрезентации: таким образом, она образует более глубокий уровень переработки и уровень понимания» (221, 67).
Тексты диалога в суде, или Тексты «автор – читатель» не являются обменом информации между симметричными полюсами, каждый выстраивает свой идеологический мост. Слово не принадлежит только одному говорящему или пишущему.
Всякое слово, высказывание, Текст имеют своего адресата и адресанта. Автор ищет ответного понимания, его ориентация отмечается в ткани дискурса, «понимание мыслится не как процесс «расшифровки», а как активный процесс «ответа», диалогичный по своей сути, выражающийся в противослове». Иными словами, любая речь понимается в терминах внутреннего диалога, который устанавливается между этой речью и речью воспринимающего: собеседник понимает речь через свою собственную. Стремясь достичь понимания со стороны собеседника, говорящий включает при производстве своей речи образ «другой речи», той, которую он приписывает своему собеседнику» (201, 75–76).
Диалог между истцами, ответчиками, судом, читателями (в нашем случае дело газеты «Огни Кавказа») получил продолжение в заявлении в Судебную палату по информационным спорам при Президенте РФ. Заявление воплотило в себе понимание сути события с позиции ответчика; выявило факультативный принцип понимания, который состоит в конструировании ментальной модели, «структура которой аналогична состоянию ситуации, описываемой посредством текста» (221, 67).
Итак, продолжая исследование газетного текста «В обойму – и вперед!», можно сделать предварительный вывод, проиллюстрировав его схемой.
Текст № 1. На этот текст не оказано журналистского «давления», кроме графической репрезентации материала на полосе (яркий лид и крупный заголовок, расположение в удобочитаемом месте на первой полосе).
Тексты № 2, 3, 4. Тексты исковых заявлений. Между Текстами № 1 и 2, 3, 4 находятся промежуточные Тексты – отклики на Текст № 1 – публикации граждан, которые были дополнены эмотивной функцией диалога на страницах газеты.
Следующие Тексты вплоть до Текста решения Белореченского суда играли роль системы аргументации на поверхностном уровне. На глубинном уровне у каждого Текста была своя система аргументации. Если Текст № 1 референтно прозрачен, то Тексты № 2, 3, 4 отличаются референтной нестабильностью, а Текст № 6 (решение суда), дабы скрыть интенцию на удовлетворение иска, становится референтно непрозрачным.
Система аргументации приходит в противоречие сама с собой: «истцы пояснили, что незаконным опубликованием беседы, где они допускали бранные слова, и комментарием к статье, где им дана отрицательная морально-этическая оценка со стороны общественности, в связи с чем они перенесли нравственные и физические страдания, т. к. они являются должностными лицами, переносят истцы переживания и в быту при общении с родными и знакомыми, поскольку данные страдания были причинены редакцией, хотя публикация соответствует действительности, то в соответствии со ст. ст. 151, 1099, 1101 ГК РФ в пользу истцов должна быть взыскана компенсация морального вреда... с учетом... положения истцов». Реальность здесь подменена сюрреальностью, отброшена за ненадобностью основополагающая в данном деле статья 152 ГК РФ «Защита части, достоинства и деловой репутации (она даже не упоминается в тексте судебного решения), формула которой гласит, что сведения должны быть распространены, не соответствовать действительности и порочить гражданина. Официозная логика и официальный язык, противопоставляемый «человеческому языку», представляет собой галлюцинацию, мираж, в котором слова приобретают способность создавать сюрреальность, обладающую лишь вербальным существованием» (257, 86). Чтобы понять это судебное решение, нужен герменевтический подход – чтение между строк, перевод с языка решения на язык «истины», что выглядело бы примерно так: мужики собрались, выпили, перешли кое-какие границы в общественном месте, говорили на «естественном» мужском языке, к тому же все они местные начальники, а это уже иной уровень отношений между ними и судом, так зачем же все это выносить на страницы газеты, хоть вы, журналисты, и не вели диктофонную запись, но расшифровали и опубликовали, хоть все и соответствует действительности, но ведь это же о начальстве речь идет и т. д.». В Тексте судебного решения отсутствует формулировка опровержения, хотя решение об опровержении есть, но составление Текста отдано на откуп редакции и, следуя за Секстом Эмпириком, можно сказать, что «отсутствие опровержения есть согласование предполагаемой и мнительной неочевидности предмета с его явлением» (255, 1904).
Концепты Честь и Достоинство здесь проявились как ориентиры чести формальной, по должности, что связывает современную ситуацию с нормами Судебника 1640 г.
Схему рассуждений по публикации «В обойму – и вперед!» нужно дополнить схемой, которую можно обозначить как «семантические слои». Каждый из Текстов, кроме поверхностной, видимой структуры, имеет глубинную, которая разворачивается и имеет иную систему рассуждений. Классифицировать разные виды рассуждений можно, исходя из двух критериев: а) направление рассуждения; б) финальность рассуждения.
Все известные по данному судебному делу Тексты породили свои смыслы, которые эксплицированы в системы «смысловых слоев». Текст № 1 несет в себе смысл: «вот, смотрите, дорогие горожане, какие люди стоят во главе городской власти». Этот смысл достаточно точно уловили читатели и откликнулись своими публикациями в газету: «безусловно, мы поддерживаем газету в ее стремлении показать истинное лицо наших начальников, которых нужно гнать с их должностей».
Смыслы Текстов № 2, 3, 4: «да, мы виноваты в том, что сквернословили в кафе, но это наше личное дело, и мужчинам позволительно сдабривать разговор матерным словом, однако редакция не имела права разглашать нашу беседу».
Смысл Текста № 5 пересекается с тремя предшествующими и подкрепляется ссылками на нормы законодательства. Текст прокурорского заявления примыкает к смысловому полю Текстов исковых заявлений, но исключает решительные меры против ответчика – газеты, демонстрируя некоторую отстраненность – пусть истцы решают свою проблему в суде.
Смысл Текста № 6 концентрирует в себе смысловые блоки всех предшествующих Текстов, находится на пересечении смысловых потоков. Исходная информация генерировала общие выводы решения, которые в своей основной части базировались не на логике статьи 152 ГК РФ, а на смысловом блоке: «мужики могут позволить себе в разговоре обсценную (мат) лексику». Текущая гипотеза – «зря о мужиках написали в газете, ну мало ли что бывает в жизни» – была изначально несовместима с предъявленной информацией, которая соответствовала действительности, следовательно, гипотеза по законам логики и права должна быть отвергнута.
При поиске подтверждения судебной гипотезы суд шел по пути поиска сопряженности смыслов и случаев. В гражданском процессе, впрочем, и в любом состязательном процессе, одна из сторон оказывается в проигрыше. Суду предлагаются две гипотезы, одну из которых суд должен верифицировать с помощью норм закона, исключив альтернативную.
Умозаключение имеет дедуктивную природу (в большинстве случаев). Исходя из знаний, которые в ходе рассуждения признаются истинными, суд порождает новые знания. Процесс порождения может быть бесконечным, но он ограничен полем смысла и презумпциями статей закона. Человек (судья) в этой ситуации ведет себя как рациональное существо, отбирая для своей гипотезы, могущей впоследствии стать решением, необходимые компоненты. При этом он сталкивается с трудностями интерпретации посылок, которые объясняются тем фактом, что значения, приписываемые терминам, заимствованы из естественного языка и могут значительно отличаться от тех значений, которые им даны в процессе коммуникации. В ходе рассуждения за основную берется комплиментарная гипотеза, субстанция отрицательных фактов не анализируется, они (отрицательные факты) эллиминируются (исключаются). Истинность или ложность альтернативных гипотез исследуется с помощью принципа вероятностного подхода к действительности (близко – не близко, вписывается – не вписывается в ментальный мир сторон). «Между истиной и ложью нет симметрии: ни с точки зрения лингвистической, ни с точки зрения когнитивной. С лингвистической точки зрения отрицание пропозиции предполагает, что что-то может считаться за истину. С когнитивной точки зрения, как говорит Пиаже, имеется примат истины над ложью.
Это отсутствие симметрии выражается в трудностях рассуждения, состоящего в доказательстве пропозиции путем отсылки к тому, что отрицание этой пропозиции ведет к противоречиям.
Менее естественный характер рассуждения через отрицание проявляется, в частности, в том, что многие логические головоломки основаны на этом принципе: надо дедуцировать истинное утверждение, исходя из ложных» (221, 108).
В поиске истинного суд, участвуя в диалоге сторон, сам становится «стороной» по делу и диалогам. В судебном процессе неизбежно возникает необходимость – соотносить тексты, несмотря на разрушенный стиль и концептуальный аппарат, исследовать образование смысла, направления смысловых потоков, соположенность смысловых слоев, опираясь при этом на смысл слов. Нередко забывают о том, что смысла слова, выражения, предложения не существует «сам по себе», он определяется идеологическими позициями сторон, слова получают свой смысл от дискурсного образования, в котором участвуют. «Пространство, в котором простираются смыслы, есть пространство множественности, широты, но также и усеченности; одни смыслы развертываются в другом, в других, или же он (смысл) закутывается в самом себе и не может освобождаться от себя <...> Смысл нельзя приклеить. Он нестабилен, все время блуждает. Смысл не имеет длительности. Долго существует лишь его «каркас», фиксируемый и увековечиваемый при своей институционализации. Сам же смысл блуждает по разным местам» (200, 213–214).
Состязательный характер судебного процесса предполагает обмен заключениями, в ходе которого стороны (истцы, ответчики) проверяют, исследуют предполагаемые комбинации, а затем конструируют сообщения, совместимые с конфигурацией избранной комбинации. В ситуации решения проблемы не существует прямого перехода от знаний к действию. После обобщения информации начинается процесс конструирования специфической репрезентации ситуации. На основе репрезентации разрабатывается процесс решения и вывода, генерализации представляют собой восхождение по каузальной сети. В делах данной категории газетные Тексты являются и причиной, и событием.
При исследовании газетных Текстов, их поверхностных и глубинных уровней, рядом постоянно присутствует другой Текст. Текст закона, положения которого сформулированы как изложение некоторого числа правил, приложимых к разным категориям лиц или случаев. Приоритет толкования Текстов в плоскости Текста закона отдается суду, который обязан верифицировать, применимо ли это правило к данному случаю. Отсюда вытекает требование исчерпанности классификации. К примеру, в пункте 1 статьи 152 ГКРФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации» сказано: «Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведение не докажет, что они соответствуют действительности». В данном тексте выражено стремление к классификации: а) гражданин; б) опровержение; в) такие сведения.
«Гражданин» должен быть четко идентифицирован, чтобы он мог требовать». «Опровержение» означает отрицание ложного и восстановление истинного. «Такие сведения» диктуют границы анализа Текста.
Можно ли опровергать «такие сведения», которые признаны самим же судом, соответствующими действительности? Нелепый вопрос.
Можно ли идентифицировать «гражданина», который в газетном Тексте обозначен как Икс? Тоже нелепый вопрос.
Однако в случае с публикацией «В обойму – и вперед!» была нарушена система классификации и суд пришел к выводу, что «гражданин Икс» – это такой-то (он сам и обратился в суд), что нужно потребовать от редакции публикации опровержения той совокупности сведений, которые в суде же были признаны соответствующими действительности.
Ошибка в решении была вызвана неадекватной репрезентацией ситуации; знание о собственных компетенциях, т. е. метапознание, играло пассивную роль в выборе процедур и разработке планов исследования. Допущение ошибок возможно по ряду причин: акцентирование внимания на комплиментарной, но ошибочной гипотезе из-за недостаточного понимания очевидного противоречия («хоть и соответствует действительности, но подлежит опровержению, т. к. нужно учитывать должностное положение истцов»); недоказуемая интерпретация ситуации; перенос по аналогии неадекватной репрезентации ситуации; игнорирование системы классификации.
Дискурс естественного языка постоянно имеет дело с объектами, которые являются продуктом подбора и построения, при этом здесь всегда можно найти следы этих операций и все, что не сказано, достаточно легко эксплицируется в высказывании и новое невысказанное влечет за собой новую экспликацию. Если подробно и последовательно раскрывать все составные части предложения, Текста, то сам Текст можно растягивать до бесконечности, ибо существительные представляют собой «аббревиатуры» тех Текстов, которые стоят за ними. Возьмем в качестве примера уже известный Текст из судебного решения: «По мнению суда, дружеское застолье в кафе «Ласка» и беседа истцов не выходила за пределы их круга и является фактом их частной жизни». Итак, определимся с Концептами. Выявим наиболее значимые, чтобы не осложнять систему анализа – мнения, суд, застолье, беседа, факт, частная жизнь.
Концепт Мнение (по словарю В. Даля) есть понятие о чем-либо, убеждения, суждения, заключение, вывод; мнить – думать, полагать или предполагать, иметь мнение о чем-либо. Аббревиатура «мнение» распалась на аббревиатуры «убеждение, суждение, заключение, вывод». «Суждение декодируется как «самый вывод, заключение, мнение // Суд, приговор, решение // Весь ход мыслей, последовательность выводов». Современная нагруженность символа «мнение» – личное или общественное – ориентирована на то, что мнение может быть субъективно и ошибочно. Устоявшийся смысл – мое личное мнение, т. е. субъективно окрашенное.
Суд (судить) – «понимать, мыслить и заключать, разбирать, соображать и делать вывод; доходить от данных к последствиям до самого конца; сравнивать и решать; // толковать, рассуждать, выслушивая мнения, советы, убеждения». Сам Концепт Суд мы достаточно подробно разбирали, поэтому здесь отметим только, что за этим концептом «скрывается» вся история этого концепта и отношение тяжущихся сторон и суд. Следовательно, если в анализируемом предложении на место слова «суд» поставить весь текст, связанный с Концептом Суд, и дать ментальную картину этого концепта, то эта «вставка» станет трудно вообразимым по объекту текстом.
«Застолье», «застольный» – обед, пир, ужин / Застольщина – общий стол, складчиною или от барина, хозяина. Концепт Застолье не такой тяжеловесный, как, к примеру, Концепт Суд. Ассоциативный ряд, вызываемый этим концептом, смещает судебное решение в плоскость облегченного восприятия. Функция этой единицы в тексте контрастирует с другими.
Контрастирует с остальными Концептами и Беседа – взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их общение, размен чувств и мыслей на словах // Речь, говор, слово, язык, наречие, способ объяснения, произношения: слог, оборот речи. Обрывки фраз и мыслей, перемежаемых нецензурщиной (см. Текст 1) в решении элегантно именуется беседой.
Факт (этот концепт описан подробно в нашей работе) – происшествие, случай, событие; дело, быль, быть; данное, на коем можно остановиться.
Частный (частная жизнь) или приватный (от лат.) – особенный, личный, домашний.
Итак, вернемся к исходному предложению: «По мнению суда, дружеское застолье в кафе «Ласка» и беседа истцов не выходила за пределы их круга и является фактом их частной жизни» (Правильно было бы написать «не выходили» и «являются», но не будем менять изначальный текст). По мнению суда, дружеское застолье – не выходило за пределы их круга – является фактом – их частной жизни.
Проанализируем Текст, используя классический контент – анализ, при котором объектом изучения в тексте является именно набор значений и которые расшифровываются при помощи отсылающих к ним указателей.
Концепт 1 – по мнению, т. е. в ходе обдумывания, понимания, предположения (а это уже зыбко!), последовательности выводов суд, а точнее судья (здесь уже неоспоримо влияние субъективного фактора) вынес суждение, которое в силу субъективности может быть и ошибочно, поскольку личностно, к тому же судья не вправе высказывать мнение, он должен быть, насколько это возможно, объективен; «мнение» не имеет функции декларативной, как «решение или заключение», т. е. концепты, принятые в юридической лексике.
Концепт 2 – суд, т. е. общественный институт, инстанция, выполняющая решения, приговоры и оперирующая набором строгих юридических формул, по возможности избегающая в своих документах размытых, многозначных концептов. Суд – инстанция правоприменительная, всей своей историей, демонстрирующая силу, которая ориентируется не на «мнение», а на декларацию решения, приговора.
Концепт 3 – «дружеское застолье» требует иного механизма переработки информации, поскольку находится в другом концептуальном ряду, и имеет означаемое – «пир, ужин», соответствующие этому атрибуты. «Дружеское застолье» есть знак, по выражению Секста Эмпирика, «воспитательный», т. е. в нем присутствует жизненный опыт. Ребенок не может себе представить «дружеское застолье» во всех его красках и деталях, взрослый человек раскрывает этот знак вполне успешно, у него этот знак дополняется новыми знаками. Порождается пирамида, иерархия знаков. Сюда подключается обострение, психологическое восприятие знака: открытость и доверительность отношений в дружеском застолье, вольность в мыслях и словах (вспомним фрагмент из текста «свои слова мы в официальном смысле не контролировали»), приобщенность к данному кругу людей и т. д. «Дружеское застолье» несколько смягчается Концептом Беседа, в котором подразумевается соблюдение этикета и норм языка. «Беседа» и «дружеское застолье» кроме прочих атрибутов включают в себя текст (устный, который потом стал письменным), о сохранении которого от посторонних должны заботиться «застольщики».
Концепт 4 – Копцепт 5 – «не выходило за пределы и круга» – в кругу своих друзей можно говорить, что считаешь нужным и целесообразным, в этом кругу действуют свои законы и нормы общения.
«Предел» и «круг» знаки, демонстрирующие ограничение, соблюдение мер предосторожности от вторжения чужих. Из Текстов мы узнали, что меры ограничения допуска в свой круг не соблюдалось, поскольку «дружеское застолье», как знак, подразумевает широкий круг общающихся, что в реальной ситуации и было. Сохранение Текста «беседы» в пределах своего круга не соблюдалось.
Концепт 6 – «является фактом» – фактом или событием, происшествием, сделанным – являлось все, что произошло в кафе. Само появление в кафе «Ласка» и «дружеское застолье» – события, не подвергающиеся сомнению и являющиеся истинным.
Концепт 7 – «частной жизни» – частная или приватная жизнь означает жизнь особенную, личную, домашнюю. Для раскрытия этого концепта воспользуемся одним из типов иерархических связей – связью прециозности, т. е. декомпозиции целого из компонентов; что позволит перейти от глобальной репрезентации к репрезентации детализированной.
Каждый гражданин, и чиновник районного масштаба в том числе, имеет конституционное право на личную (частную) жизнь. Но может ли быть частная жизнь в общественном месте, к примеру, в кафе. Безусловно, личное дело каждого – посещать любое общественное заведение. Но когда общественная, публичная фигура посещает после публичного мероприятия общественное место (кафе) и ведет там «беседу» в кругу таких же публичных фигур и тематика «дружеского застолья» не дает оснований утверждать, что обсуждались приватные (личные, домашние) проблемы, то по законам формальной логики истинным может быть выводимое из истинного. Здесь уже чувствуется влияние Концептов Истина, Правда, Ложь.
«Доказательство по своему роду есть знак. Ведь оно выявляет заключение, и объединение его посредством посылок является знаком существования заключения» (255, 209).
Любой знак как знак воспринимается мыслью, а не чувственным восприятием. Знак именуется истинным и ложным, а истинное и ложное нечувственно. «То и другое – постулат, а постулат принадлежит не к чувственным, а к мыслимым предметам» (255, 190).
Публичные, инициальные фигуры (на это ссылается суд в своем решении и этой же ссылкой аргументирует необходимость карательных санкций против редакции) находятся в общественном месте и ведут социально значимый разговор о перспективе «овладения массами», репрессиях против ослушников и т. д., вводят в свой круг посторонних, не заботятся о сохранности в тайне своего разговора, т. е. продолжают в это время публичную жизнь. а не входят в сферу частной, приватной, домашней жизни. Детализированная репрезентация ситуации дает возможность сделать вывод, что факт или событие, произошедшее в кафе с публичными фигурами, нельзя отнести к частной, домашней жизни. Следовательно, глобальная репрезентация суда неверна. Ошибка заключалась в том, что совокупность частных случаев: бесед, дружеских застолий – и их значений была по аналогии перенесена на рассматриваемое дело. Такие глобальные репрезентации по аналогии – довольно распространенное явление в судах при разбирательстве дел о защите чести и достоинства. Суть в том, что при отсутствии подходящего знания об актуальной ситуации аналогия использует знания, прилагаемые к близким ситуациям, и производит необходимые коррекции. В суде это называется судебной практикой и рассмотрением дел по аналогии.
«Аналогия» (греч. аnalogia – соответствие, сходство) предметов (явлений, процессов) в каких-либо свойствах. Умозаключение по аналогии – знание, полученное из рассмотрения какого-либо объекта, переносится на менее изученный, сходный по существенным свойствам, качествам объект» (311, 48). Аналогия в определенной мере представляет собой процесс интеллектуального блуждания, охватывающий различные способы переработки информации, эвристический процесс по формированию гипотезы. Смысл аналогии можно свести к следующему суждению: если устанавливается соответствие между определенными связями, которые существуют в двух областях, и выявляются связи, которые истинны в одной области, то можно с долей уверенности предположить, что соответствующие истинные связи существуют и в другой области, а следовательно, их нужно найти и применить.
Вторжение в частную, личную, домашнюю жизнь запрещено Законом. Что личная (частная) жизнь не нуждается в дешифровке. Эти связи истинны, и они переносятся на другую актуальную ситуацию, но при этом нужно сохранить предосторожность в процессе отыскания связи, к которой приложима аналогия. Все ли, что принадлежит человеку и касается его, составляет тайну личной (частной) жизни? Разумеется, что нет. Ибо тогда общество, человек, который, по выражению Аристотеля, является «политическим животным», были бы окутаны плотной пеленой тайны. Не все личное является личным. Посещение кафе есть дело личное, но информация о факте (событии) посещения относится уже к сфере общественной. «Дружеское застолье» – дело личное, но информация о желании «овладеть массами» не вписывается в пределы жизни приватной (домашней, личной).
Связи истинные в одной области являются эталоном аналогии, и в процессе познания актуальная ситуация образует пару с ситуацией-эталоном, но неравнозначную до тех пор, пока все характеристики после верификации не станут тождественными.
Если какая-то из характеристик «ложная», то пара «актуальная ситуация – ситуация-эталон» не будет тождественна, и аналогия здесь неприменима. При желании получить искомый априори (до опыта запланированный) результат, если обнаруживаются противоречия с информацией, являющейся субстанцией явления, исследователя ждет неудача. Здесь и происходит подгонка процедур умозаключения с целью ликвидации этих противоречий.
В газетных Текстах и Текстах судебных решений присутствуют формы «умолчания», которые можно вслед за Э. Пульчинелли Орланди обозначить термином «политика умолчания». Выделяются три формы: а) основополагающее умолчание; б) конституитивное умолчание; в) локальное умолчание.
«Основополагающее умолчание не делает никакой врезки, оно имеет значение само по себе. И именно оно в конечном счете определяет политику умолчания, ибо само по себе означает, что «не-говорение» имеет смысл, определенный смысл. Поэтому именно основополагающее умолчание позволяет нам высказать принципиальное положение о том, что речевая деятельность есть политика» (200, 222). Суть речевой (и текстовой) политики сводится к тому, чтобы, высказав X, не говорить У. В нашем случае политика умолчания проявляется наглядно и ярко: редакция публикует расшифровку разговора, вместо того, чтобы дать на основе разговора аналитическую статью и серией оценок – «заклеймить позором» чиновников. Временно заглушаются смыслы, экспликации которых хотят избежать: верхушку власти можно критиковать через критику ее окружения. Зоны, которые на данный момент являются запретными, можно обходить, создавая с помощью политики умолчания новое смысловое поле.
Политики умолчания придерживался и суд, хоть истцы и вели себя аморально в общественном месте и их нужно наказывать по нормам административного кодекса, но это не простые граждане, с которыми можно «обойтись» по Закону, к тому же ментальные установки протестуют: это что же получается: мы в компании выпьем, а наш разговор на страницах газеты опубликуют, Не важно, что опровергать нечего, обяжем и опровержение, и извинение опубликовать, а если редакция не выполнит, то применим к ней нормы Закона. Идет апелляция к Концептам Закон, Суд, к их глубинным основам. Чиновники – это власть, а ее нежелательно трогать, ко всему прочему судебная система есть часть системы власти. На выработке такого решения сказалось действие индивидуальной когнитивной системы, которая включает разные виды знаний: интра-интер и экстратекстуальных-декларативных и процедурных, входящих в разнообразного вида ментальные схемы.
По мнению А. Г. Баранова, «ИКС (индивидуальная когнитивная система) каждого индивида характеризуется определенным набором предметных областей, в которых он специализирован» (38, 3). Особенности Икс: каждый индивид – журналист, судья, чиновник – склонен переносить даже в ту сферу деятельности, где он не специализирован. Несмотря на размер, считаем целесообразным предложить читателям цитату из статьи А. Г. Баранова «Потенциал метаязыковой интерпретации», в силу ее абсолютной сопряженности с нашей темой. «Еще одной особенностью Икс индивида выступает расчлененность ее когнитивного базиса на ядро и ментальные блок-схемы. В ядро входят знания, приобретенные индивидом остенсивно (базисные понятия человеческого опыта – физические, сенсорные и т. д.). Это «алфавит» когнитивной деятельности индивида, из которого составляются когнитивные модели мира. Образно Икс можно представить в виде пирамиды, в фундаменте которой заложены знания остенсивной природы. Над ними надстраиваются знания более абстрактного и метафизического порядка. Второй уровень когнитивного базиса включает набор когнитивных схем. Являясь инвариантами познавательной деятельности индивида, они отражают разного рода стереотипные ситуации, а личностный опыт индивида обеспечивает возможность манипуляции «алфавитом» в построении «возможных текстовых миров» (38, 3).
Построение эвентуальных (возможных) текстовых миров, как правило, проявляется в судебном процессе, когда реализуются субъектно-объектные отношения, как между сторонами процесса, так и между текстами, которые являются специфическими «репрезентантами» сторон, их систем мышления и языка. Здесь ясно проявляется роль индивида в процессе коммуникации и создании модели коммуникативной ситуации. «Индивид рассматривается не как пассивный регистратор абстрактной семантики языка, некий актуализатор потенциальных значений, а как активный субъект коммуникации, который создает и интерпретирует любое речевое произведение на основе как социального, так и индивидуального опыта. Отсюда вытекает, что проблема понимания языковых выражений – не собственно лингвистическая. Почему? Да хотя бы потому, что, во-первых, при исследовании необходимо обращение к анализу смысловых компонентов – различных по качеству психических образований, хранящих все знания и мнения индивида о действительности. Систему таких образований, строящуюся на ассоциативно-апперцепционной природе мышления, мы <...> называем концептуальной системой» (203, 19–20).
По Канту, существуют в сфере познания два вида суждений - аналитические и синтетические. В аналитических суждениях (это по характеру, как правило, тексты исковых заявлений) сказуемое «принадлежит» подлежащему, как «нечто содержащееся в нем». «Во всяком суждении сказуемое необходимо связано с подлежащим... Но в мысли эта связь остается до судящего акта нереализованной, и только в аналитических суждениях подлежащее имеет такое строение, что не представляется нужды выходить «за пределы понятия» ни для выполнения, ни для оправдания любой возможной предикации. Связанное с подлежащим сказуемое суждений синтетических «находится вне понятия» в том смысле, что никакое различие или «разложение» действительно мыслимого комплекса признаков не может его обнаружить. В синтетических суждениях понятие – подлежащее, по мысли самого Канта, играет только символическую роль, роль указателя: заведомо неполное и незаконченное понятие, «захватывая только часть предмета, этою частью обозначает целый предмет» и вместе с тем, «захватывая, по крайней мере, часть предмета, оно обеспечивает отношение нового сказуемого к тому же предмету, к самому предмету» (275, 236–237).
Схема анализа субъектно-объектных отношений в суде упрощена: подлежащее воспринимается как указатель факта, сказуемое играет роль активатора действия. То, что находится в плоскости «размытых отношений», вводится в плоскость реальных, доказуемых явлений.
Событийное поле служит для журналиста источником исследования, объектом его внимания, отсюда он черпает события, а точнее фрагменты события, которые после обработки в нужную структуру становятся информацией, готовой к распространению, и которая вводится в информационное поле. Журналист и издание, в котором он работает, отражают свою ментальность и работают на ментальном поле своих читателей. Исходным продуктом является Текст, включающий в себя достаточно много элементов, в основе которых лежат концепты.
Информационный объект – это предмет, с которым работает журналист, а «предмет в своей формативной и атрибутивной полноте есть основание суждения, основание актов судящей мысли» (275, 238).
Следует продолжить данную мысль еще одной цитатой из книги «К метафизике суждений» Георгия Флоровского: «По отношению к предмету всякое суждение является аналитическим», операцией только «изъясняющей», – «синтез» означал бы здесь фантазирование» (275, 238–239). «Синтез», как правило, применяется в обеих сферах – в суде и СМИ.
В плоскости нашего исследования создание и распространение текста регулируются правовыми нормами.
Сбор информации. Эта часть творческой деятельности журналиста определяется Концептом Закон, статьей 47 Закона РФ «О средствах массовой информации»: «журналист» имеет право: 1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 2) посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы; 3) быть принятым должностным лицом в связи с запросом информации; 4) получать доступ к документам; 5) копировать документы и материалы; 6) производить записи, в т. ч. с использованием средств аудио- и видеотехники; 7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф...»
3, 4, 5, 6, 7 – эти позиции в деятельности журналиста регулируются статьей 47 Закона о СМИ, т. е. «излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью»; статьей 19 того же закона – «редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности»; п. 1, п. 4 ст. 29 Конституции РФ – «Каждому гарантируется свобода мысли и слова», «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».
Словом, в основе своей процедура создания Текста имеет правовые ориентиры и регуляторы. Автор свободен и ограничен одновременно. Свобода мысли еще не означает свободы озвучивания. Суждения, акты судящей мысли имеют юридические берега.
Сбор информации предусматривает и систему ограничений: статья 21 Конституции РФ – «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления»; статья 23 Конституции – «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени»; п. 2 ст. 49 Закона РФ «О средствах массовой информации», в силу которого журналист обязан – «проверить достоверность сообщаемой им информации», п. 5 ст. 49 этого же закона, – «получать согласие на распространение в средствах массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей; п. 1. ст. 51 этого же закона – «не допускается использование установленных настоящим законом прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространение слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся средством массовой информации».
Учет ментальности читателя. Редакция (журналист) отслеживает и изучает процессы понимания и восприятия читателем его материалов. Ментальные процессы во многом определяются коммуникативной функцией языка (ментальный – mentalis – умственный образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе). Механизмы понимания представлены в иллокутивной семантике, «рассматривающей смысл языкового выражения как конвенциональное, контекстно зависимое, употребляемое в соответствии со строгими правилами образование» (203, 20). Воздействие на ментальные процессы также регулируются правовыми нормами.
Все правовые ограничения имеют императивный характер и по природе своей имплицитны, т. к. не учитывают языкового и понятийного многообразия. Ментальная презентация объекта наделена смыслом, который порождается при восприятии, представляющем собой перцептивное и концептуальное выделение объекта. Концептуальная система индивида воспринимает новые смыслы, отвергает их или воспринимает и трансформирует. Языковая способность индивида базируется на его способности идентифицировать объекты, их сущности. В процесс понимания включены такие категории, как знания, контекст, мнения, текст, язык, смысл и т. д., которые не входят в правовой понятийный аппарат, но при рассмотрении дел, связанных со СМИ, заимствуются как необходимый категориальный инструментарий, но без учета их природы. «Язык сам по себе не выражает никаких смыслов вне концептуальной системы. Символическая фиксация концептов дает возможность манипулировать ими и, следовательно, строить новые смысловые структуры, которые без языка не могли бы быть построены. Поэтому язык – средство конвенциональной ориентации концептуальных систем» (203, 23).
Верификация сведений в газетном Тексте в ходе судебного следствия является операцией синтетической и, по Флоровскому, означает «фантазирование», т. к. механизмы взаимодействия языка права и языка журналистики, несмотря на «проживание» на едином языковом поле, не обработаны, Концепты права не раскрыты, и как следствие идет ситуативное толкование, вычленяются для нужд процесса концептуальные ориентиры, отвечающие интересам сторон. Смысловая доминанта Текста, представляющая собой иерархию смыслообразований разной степени сложности и значимости, исследуется в суде в рамках нераскрытых терминов, что приводит к смысловой неразберихе и языковой сумятице. Журналист, распространяя свой Текст (под распространением понимается весь процесс создания Текста), ориентируется на то, что адекватная передача смысла в акте коммуникации возможна при условии, что реципиент (читатель, зритель) совершает такой мыслительный акт, в итоге которого получается аналогичный смысл.
Если же реципиент вычленяет нужную для него информацию с неадекватным первоначальному смыслу смыслом, то концептуальная система Текста входит в противоречие с концептуальной системой нового Текста. При этом процесс понимания нового Текста на основе исходного строится как функциональная система, т. е. данная схема образуется и существует в данном процессе. Схема выступает здесь как конфигурация связей и отношений между разными элементами ситуации.
Структура текста
Структура – это глобальный способ организации объекта как некой целостной данности, которая включает в себя: а) материальные элементы, составляющие структуру; б) отношение между ними; в) целостность объекта. Текст имеет глубинную и поверхностную структуры.
«Глубинная структура есть идейно-тематическое содержание текста, сложное переплетение отношений и характеров, в основе которых лежит <...> образ. Глубинная структура – это авторские интенции, прагматическая установка как один из доминирующих факторов. Поверхностная структура – лингвистическая форма, в которую облечена глубинная структура» (269, 56–57).
Поверхностная структура легко поддается анализу, глубинная структура есть смысловое, концептуальное образование, которое оказывает воздействие на порождение поверхностной структуры.
Текст есть открытое или скрытое отражение отношений. В журналистике, как правило, идет сбор, обработка и распространение отношений. События, личность, явление включены в систему отношений. Любое, даже самое ординарное событие имеет свое место в поле отношений, которые при более предметном анализе выводят на другие отношения и так далее. Получается непрерывная, почти бесконечная цепь отношений, из которой журналист выбирает наиболее значимые.
По мнению З. Я. Тураевой, существуют две модели порождения текста. «Представление о глубинной и поверхностной структурах связано с так называемой моделью порождения текста. Вертикальная модель <...> предполагает существование некой исходной абстрактной (семантической) модели. Эту модель называют глубинной структурой. Она проходит ряд преобразований до конкретной реализации, до воплощения в поверхностную структуру. В этом случае текст рассматривается как глобальная структура, включающая глубинную и поверхностную структуры. <...>
Модель горизонтального порождения <...> является наиболее фундаментальной моделью текста» (269, 58–59).
Мы придерживаемся точки зрения, которую можно выразить следующим образом: тексты (журналистские) создаются с применением линейной и блоковой модели. Суть линейной модели построения текста заключается в том, что текст построен по принципу последовательного соединения частей события, с предсказуемым развитием события, внутренняя самоорганизованность элементов текста предполагает вытекание последующего из предшествующего.
В журналистике линейная модель применяется в жанрах: заметка, репортажи, зарисовка, корреспонденция. Линейно структурированная система обладает высоким уровнем энтропии как «меры вероятности пребывания системы в определенном состоянии» (179, 71).
Приведем пример линейно структурированного текста. «Как нам сообщили в ГИБДД, «лежачий полицейский» должен обязательно обозначаться белыми полосами и знаком «Неровная дорога». Если ваша машина пострадала от него или любой другой деформации дорожного покрытия, вы должны, не съезжая с места, вызвать работников ГИБДД. Они зафиксируют факт и составят документы о причине повреждения вашего автомобиля. После этого вы можете смело подавать в суд на ту организацию, которая отвечает за эксплуатацию этого участка» («Новороссийский рабочий» № 223, 1999). Все последующие части этого текста закономерно вытекают из предыдущих, модель сконцентрирована в формуле «если..., то». Все множество знаков, обладающих потенциальной динамикой, позволяет говорить о комбинаторной энтропии, поскольку от порядка расположения знаков зависит уровень осмысленности повествования. Эмотивно-оценочная функция нулевая. Линейно структурированную модель текста можно выразить схемой:
А («лежачий полицейский» должен быть обозначен) – Б (если машина пострадала) – В (вызывайте ГИБДД) – Г (составьте протокол) – Д (подавайте в суд).
Иное расположение знаков (так же как и выбор лексики) в тексте возможно, но не предусмотрено этой моделью.
«<...> В процессе создания текста, выбора соответствующей лексики автор уже не в той степени скован жестко предписанными требованиями (к примеру, требования к заметке диктуют ответ на три вопроса: что? где? когда? – Авт.) определенной системы операций. Он вправе проявить большую свободу, которая, однако, не может быть беспредельной, и несоблюдение меры, переход за некую очень тонкую грань, хотя и четко не установленную, не зафиксированную, влечет усиление энтропии» (179, 73).
Примером перехода «тонкой грани», меры, игнорирования предписанными требованиями, выбора иной лексики могут служить следующие тексты.
Убит из ракетницы
В один прекрасный день пропал З6-летний житель станицы Каневской. Накануне его видели с родственником, они вместе выпивали...» («Краснодарские известия», 04.12.97).
Срок годности увеличен
В новой упаковке ожидается появление в торговых точках молочно-консервной продукции известного Кореновского комбината. <...> В новой упаковке продукция будет отправляться в наиболее отдаленные точки, а в ближайших магазинах она будет реализовываться в свежем виде» («Вольная Кубань», 24.02.98).
Комсомолки
Крепкое комсомольское звено образовалось на первой птицефабрике <...> Через руки девчат проходят за смену более тридцати тысяч яиц – почти в полтора раза больше нормы. Устают они, понятно. Однако это не мешает им помогать своему комсомольскому вожаку. Надо, скажем, составить программу очередного культурно-массового мероприятия – девушки из звена сортировщиц всегда готовы на творческую выдумку. Да и в других делах активны («Советская Кубань», 15.03.80).
Наш земляк
В радиорубке нес вахту Миша Д., мы его называли асом в эфире, природа наградила его высоким ростом, среди личного состава корабля его всегда можно было увидеть с любого расстояния, худощавый, чуть сутуловатый, на собеседников ему приходилось смотреть сверху вниз, с резко выраженными чертами лица, крупными, чуть выпуклыми ушными раковинами; курчавые, редкие и темные волосы завершали на высоте его фигуру. Это был специалист первого класса («Советская Кубань», 24.05.82).
Идет смотр бригад
<...> Хозяин завел нас за угол и там показал свое хозяйство. Хозяйство было небольшим» («Советская Кубань», 14.09.79).
По мнению Б. Я. Мисонжикова, точку зрения которого мы разделяем, «несмотря на свободу творческого поиска, допускаемую при текстуализации, автор, тем не менее, должен придерживаться существующих императивных правил, выполнение которых обусловливает минимально энтропийный результат» (179, 73). Поверхностная и глубинная структуры в указанных текстах вошли в противоречие, породили новые, не планированные автором, концепты.
Линейная структура текста характерна для текстов законодательных. Здесь нет необходимости в примерах.
Блоковая модель текста предоставляет автору большую свободу текстуального оформления, интенсивную эксплуатацию глубинной структуры, эксплуатацию концептов.
Схема блоковой модели может быть представлена в следующем виде:
|
1 |
4 |
|
2 |
5 |
|
3 |
6 |
Каждый из блоков по сути своей отдельный текст, написанный по нормам линейно структурированной модели. Блоковая модель подвержена творческим вариациям, блоки соединены глубинными связями, «они не полностью осознаются, когда мы читаем, но смутное ощущение, что переходы от одного блока к другому различаются по вероятности – такое ощущение всегда есть. На основе сложного переплетения равновероятностных связей формируется и общий смысл текста – его концепт» (36, 137). Блоки могут перемещаться в плоскости текста в самых разных вариантах. К примеру, так:
|
5 |
3 |
|
2 |
6 |
|
4 |
1 |
|
1 |
5 |
3 |
2 | |
|
3 |
6 |
5 |
1 | |
|
2 |
4 |
6 |
4 |
Блоковая модель характерна для таких жанров: статья, очерк, фельетон, памфлет. Для наглядности введем в жесткий каркас нашей блоковой модели примерный текст.
1 – На заброшенной дороге в лесу грибники (охотники, туристы, рыбаки) обнаружили сгоревшую машину ... и далее следует описание.
2 – Следователь по особо важным делам. Глубокая ночь. Версии преступления ... и дальше по законам жанра.
3 – Одного из преступников гложет совесть. Он хочет пойти с повинной.
4 – Эксперты лаборатории провели исследование, которое навело следователя на мысль...
5 – Арест преступников...
6 – Суд и приговор.
Каждый из блоков может быть написан разными стилями. Психологическая и эмотивная функции используются предельно, процесс понимания заключается не только и не столько в установлении связей, сколько в определении их значимости. Блоковая модель легко поддается перецентровке, т. е. перемещению мысленного центра ситуации от одного блока к другому. В каждом из блоков есть свои поверхностная и глубинная структуры, которые объединены со структурами других блоков, что дает возможность адресату к построению собственных гипотез. Поиску того, чего не дано в тексте. Стандартные ожидания, предугадывания прерываются, фоновые знания активно включены в процесс понимания.
Журналистские тексты правовой тематики (термин «правовой» несколько размыт, поскольку под словом «правовой» в журналистике понимаются публикации о преступлениях, правонарушениях, а не анализ законодательных актов (пишутся, как правило, по блоковой модели с использованием полифункциональности языковых средств, давая широкий простор интерпретации. Тексты законов зажаты рамками нормы, возможности языковых средств ограничены в применении, интерпретация не допустима.
Между этими манерами оформления мысли (смысла) лежат тексты судебных прений или защитительные речи. Это комбинаторная модель, в которой сочетаются facon de parler (манера выражаться) журналистики и жестко нормативная лексика права.
Блестящих образцов судебного ораторского искусства достаточно много. Авторы этих текстов широко использовали асимметрию между планом выражения и планом содержания, языковые знаки в их текстах приобретали семантические функции, нередко выходящие за рамки функций, закрепленных за ними в языковой системе, что свойственно журналистике.
Отметим одну особенность: между Россией и Францией всегда были тесные культурные связи. Тексты выступлений адвокатов печатались в газетах, и они оказывали непосредственное воздействие на читателей, выполняя две функции: воспитательную и просветительную. На сегодняшний день эта традиция, к сожалению, утрачена.
Наша тема не предусматривает полного изложения, скрупулезного анализа самого текста, поэтому ограничимся отдельными фрагментами, свидетельствующими о комбинаторной модели текста и широкой палитре языковых средств.
Речь адвоката Мано по делу Дрейфуса
«Настал час высшего правосудия <...> Как старались ввести эти умы в заблуждение, как их развращали, как их ослепляли! Каким образом в такой благодарной и великодушной стране, как Франция, заслуженная слава которой покоится на здравом смысле и на страстной любви к истине, удалось смутить так много честных людей и создать столь пагубный разрыв? <...> Сегодня мы спокойны; мы можем идти прямо к цели, не страшась оскорбить чувства, достойные уважения; напротив, идти с уверенностью, что мы отвечаем желанию великих военных вождей и защищаем честь армии»... (Далее идет снижение тона, пафос уступает место строгости языка.)
<...> Всего лишь несколько дней тому назад Уголовная палата на основании доклада советника Рулье постановила объявить недействительными дебаты и обвинительный приговор, постановленный судом присяжных, вследствие того, что предварительный допрос, которому подвергся обвиняемый..., не имел подписи регистратора (246, 135).
(Здесь присутствует лексика права – «постановленный» и т. д. Следует отметить, что современные адвокаты не только не пользуются богатствами языка, но и путают правовую терминологию.)
Известный французский адвокат Филипп Дюпен тексты своих речей писал как очерки. В процессе по делу генерала де Риньи, обвиненного в оскорблении маршала Клозеля. Адвокат нарисовал яркую картину резких противоречий, существовавших в армейских кругах Франции, показал путь колониального корпуса Клозеля в Тунисе.
Клеветники донесли маршалу Клозелю, что генерал де Риньи распространяет о нем ложные слухи, нелестно выражается о действиях маршала.
«Я не смею пытаться изобразить душевные муки, которые выстрадал он, подавляемый гнусной клеветой, – моих сил недостаточно, голос мой слишком слаб! <...> Он стоит перед своими сослуживцами, уважаемыми представителями армии, судьями, лучше других способными оценить требования дисциплины и соразмерить наиболее щекотливые стороны военного мира с чувством собственного достоинства <...> (246, 320–321).
Представим фрагмент из текста речи еще одного адвоката Шэ д’Эст Анжа по делу де ла Ронсьера
<...> Когда я слышу ваш голос, мои мысли спутываются. Когда блеск ваших доводов увлекает меня, когда я вижу слезы на глазах, когда вы говорите нам о нестерпимой обиде, о позоре, о страданиях, когда рисуете картину горя и печали целой семьи, не одно чувство удивления. Нет, я тоже сдерживаю слезы, и те же стенания вызываете у меня вы. В эти минуты, сознаюсь, мои подозрения начинают казаться излишними, даже мне самому... Невозможно, говорю я себе, чтобы молодая девушка сочинила такой гнусный роман. И, однако, какая масса вопросов остается без ответа?
<...> Ничего не понимаю! Но ведь разгадать тайну обязан не я. Мой долг лишь убедить вас, что не ла Ронсьер виноват» (246, 549).
Перейдем с примерами в дореволюционную Россию. Фамилии выдающихся русских юристов знают не только профессионалы. Это Т. А. Александров, С. А. Андреевский, М. Г. Козаринов, И. П. Карабчевский, Ф. Н. Плевако, Д. Д. Спасович, А. И. Урусов. Одним из выдающихся юристов был Анатолий Федорович Кони.
Речь А. Ф. Кони по делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем (фрагмент)
<...> Мы знаем, что молодой банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по мужу, и тело было предано земле, а дело – воле божьей. <...> Кончая обвинения, я не могу не повторить, что такое дело, как настоящее, для разрешения своего требует больших усилий и ума. Но я уверен, что вы не отступите перед трудностью задачи, как не отступила перед ней обвинительная власть. <...> Я нахожу, что подсудимый Емельянов совершил дело ужасное, нахожу, что, постановив жестокий и несправедливый приговор над своей бедною и ни в чем не повинною женою, он со всей строгостью привел его в исполнение» (129, 49, 62).
Речь С. А. Андреевского по делу графа Милевского (фрагмент)
«Мне кажется, гг. судьи, что в настоящее время единственным подсудимым в этом деле остался только я, ибо я один провинился в незнании нескольких польских слов и за это несу наказание в виде необходимости сызнова произносить защиту, с соображениями которой уже согласились ваши предшественники, при совершенно одинаковых обстоятельствах». <...>
Я буду краток. Граф Милевский обвиняется в клевете. Местом преступления был редакторский кабинет г. Фризе. Преступление совершилось в одну секунду и состояло из недоконченной фразы графа Милевского, которую прервал сам Фризе» (234, 112–113).
Перейдем в следующую эпоху. Эпоху советского суда.
Речь члена Московской городской коллегии адвокатов И. Д. Брауде в защиту В. Я. Абрамова (фрагмент)
«Товарищи судьи! Бесспорно, был прав товарищ прокурор, когда сказал, что в нашей стране никому не дано право совершать самосуд. В нашей стране, где правосудие стоит на такой высоте, какой не знает мир, есть все реальные возможности обращаться к защите органов власти... <...> Преступление есть пережиток, результат коллизии между новыми, социалистическими условиями жизни и еще порой тяготеющих над советским человеком пережитков мрачного прошлого» (115, 25–26).
Речь члена Киевской коллегии адвокатов М. П. Городисского в защиту А. П. Новинской (фрагмент)
Дело, над рассмотрением которого вы трудитесь целую неделю, глубоко волнует нашу общественность. (Новинская причинила телесные повреждения ребенку. – Авт.). Волнение это вполне закономерно. Вопросам охраны детства и материнства уделяется исключительное внимание. У нас созданы все условия, обеспечивающие женщине здоровое материнство, охрану ее прав. Широкая сеть родильных домов и лечебных учреждений обеспечивает проведение родов в больничных условиях. Советская научная мысль неустанно работает над вопросами родовспоможения, физического развития детей. Забота о здоровье матери и ребенка занимает центральное место в деятельности наших органов здравоохранения (115, 43).
Речь члена Ленинградской областной коллегии адвокатов Е. В. Зайцева в защиту Л. Ю. Буканова (фрагмент)
<...> Тяжело переживает происшедшее; он еще и еще раз анализирует все события, хочет ответить самому себе, есть ли его доля вины в гибели двух молодых людей. (Буканов утвердил восхождение группы альпинистов. – Авт.). <...> Вы должны его оправдать. <...> Коммунистическая партия воспитывает советских людей и рядовых работников и заслуженных руководителей в духе беспредельной преданности своему народу, своей Родине. <...> Честь Буканова подвергается тяжелому испытанию. И я прошу вашим оправдательным приговором эту честь полностью восстановить <...>, чтобы он мог и дальше достойно нести высокое звание честного советского человека (115, 60).
Предложенные выше фрагменты текстов речей дают представление о том, как авторы работали со словом и текстом, разумеется, каждый в своей культурной среде и в соответствии с языком эпохи.
Модель построения текста – это, прежде всего, определенный алгоритм построения текста из текстовых блоков, в котором наличествует операция «смежностного сорасположения этих блоков во времени и в пространстве» (156, 308).
В тексте процесс выбора вариантов модели завершен. Последовательность текстовых блоков определена авторским замыслом и смыслом, отношениями между элементами плана содержания и элементами плана выражения (семиотические, знаковые отношения). Следует отметить, что смысл текста не является присущей ему составной, хотя вне текста и не существует. «Когнитивный смысл текста, отвлеченный от текста и сохраненный в памяти, превращается в поле знания, в ментальное пространство когнитивной структуры сознания – памяти. А следовательно, он перестает быть когнитивным смыслом этого текста. Теперь это уже индивидуально-личностное знание о тексте или о содержании текста, а возможно, и о некоторой субъективной действительности, никак не ассоциируемой с данным текстом. Есть тому множество примеров, когда люди забывают, что то или иное их знание было ими почерпнуто из некоторого текста. Оно для них не маркировано в текстуальном отношении» (156, 306). Воспоминание о знании стимулируется концептами, играющими роль связующего звена между событием, текстом о событии и отношением к двум предшествующим субстанциям. Текст как субъективное отражение объективного мира, текст – выражение сознания, что-то отражающего. Когда текст становится объектом нашего сознания, мы можем говорить об отражении отражения. Через чужое отражение к отражаемому объекту» (29, 308). Отношение является причиной конфликтности, т. к. на этом поле происходит столкновение двух текстов – рожденного на базе события и отражающего это событие и создаваемого в ментальном мире адресата, отражающего отражение. «Текст не вещь, а потому второе сознание, сознание воспринимающего, никак нельзя элиминировать или нейтрализовать» (29, 301).
Второе сознание (т. е. сознание воспринимающего) нельзя эмитировать и нейтрализовать по причине того, что текст является «сосредоточием организованного, упорядоченного и врывающегося случайно, незапрограммированного, возникающего в процессе его создания» (93, 4), незапрограммированное можно предвидеть, но, устранив одно, автор получит второе, третье и т. д. незапрограммированное. Невозможно выстраивать две структуры, это уже иная деятельность.
В журналистике информация различается по своему прагматическому назначению. Мы поддерживаем точку зрения И. Р. Гальперина о понятиях: содержательно-фактуальная информация и содержательно-концептуальная информация.
Содержательно-фактуальная информация содержит сообщения о фактах, событиях, процессах, происходящих, происходивших, которые будут происходить в окружающем нас мире, действительном или воображаемом (93, 27).
...СФИ эксплицитное по своей природе, т. е. всегда выражено вербально. Единицы языка в СФИ обычно употребляются в их прямых, предметно-логических, словарных значениях, закрепленных за этими единицами социально-обусловленным опытом.
«Содержательно-концептуальная информация сообщает читателю индивидуально-авторское понимание отношений между явлениями, описанными средствами СФИ, понимание их причинно-следственных связей, их значимости в социальной, экономической, политической, культурной жизни народа, включая отношения между отдельными индивидами, их сложного психологического и эстетико-познавательного взаимодействия. Такая информация извлекается из всего произведения и представляет собой творческое переосмысление указанных отношений, фактов, событий, процессов...
...СКИ – это комплексное понятие, не сводимое к идее произведения. СКИ – это замысел автора плюс его содержательная интерпретация.
Содержательно-подтекстовая информация представляет собой скрытую информацию, извлекаемую из СФИ благодаря способности единиц языка порождать ассоциативные и коннотативные значения, а также благодаря способности предложений внутри СФЕ (сверхфразовое единство) приращивать смыслы (93, 28). СПИ – факультативная информация, но когда она присутствует, то вместе со СФИ образует своеобразный текстовый контрапункт» (88, 28).
В ходе судебного следствия по делам о защите чести и достоинства происходит операция членения текста, что позволяет привлечь к анализу такие категории, как ретроспекция, континуум, переакцентуация, что порождает порой непреодолимые противоречия. Операции, проведенные волюнтаристским способом, открыто показывают позиции стороны, занявшей агрессивную позицию.
Информационные жанры в журналистике не несут в себе эстетическую, гедонистическую функции, поэтому для их анализа берется логическая организация самого сообщения. В подавляющем большинстве случаев операция членения в газетных текстах ориентирована на прагматическую установку. Сжимание формы текста для удобства анализа приводит к нарушению логики текста, логики его отдельных частей, поскольку в отдельном сверхфразовом единстве (в нашем случае абзаце) содержится разноплановая информация.
Тексты в журналистике и праве представляют собой последовательность языковых единиц. Основными свойствами текста являются последовательность, связность, осмысленность, информативность, возможность прочтения и понимания. В журналистике структура и язык текста определяются жанрами, которые соответствуют замыслу автора.
Текст – явление социально-речевое, выступает как высшая коммуникативная единица, основу которой составляют интенции автора и смысл. Текст является отражением события, включающим в себя контекст и подтекст. Не существует ложных или истинных текстов. Тексты находятся вне зоны действия этих категорий. Ложными/истинными могут быть неверифицированные сведения. В суде рассматривают метатексты, что приводит к конфликту языка права и языка журналистики. Верификация сведений в газетном тексте в ходе судебного следствия является операцией синтетической, смысловая доминанта текста исследуется в рамках нераскрытых терминов. Концепты права и журналистики лежат в основе текстов, стимулируют порождение смыслов.
Концепты, которые были исследованы в настоящей работе, составляют малую, но очень значимую часть концептуальной базы, лежащую в основе языка права и журналистики. Концепты Закон, Суд и т. д. отражают государственную монополию на легитимное насилие. Конституции, кодексы, законы, указы, правительственные постановления, административные решения и т. д. суть средства реализации власти с помощью языка и в основе своей содержат тексты, базирующиеся на юридическом и политическом дискурсе. Законодатель эксплуатирует язык, вводя в тексты законодательных актов языковые формулы, в которых интересы конкретной личности не находят должного отражения. Из этого общего не вытекает со всей очевидностью частного. Знаки языка права переданы в введение «субъективности» – «суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению», что, с одной стороны, дает возможность судье проявить себя как личность, утверждающую торжество Истины, с другой стороны, судья имплицитно связан операцией оценивания, т. е. четкой логической процедурой. Тексты законов можно определить словами из «Трагических поэм» д’Обинье как «суда и мщения суровые скрижали».
Проведенный анализ текстов законодательных актов дал возможность сделать вывод, что Закон порождает закон, руководствуясь Законом, без учета, особенно в сфере масс-медиа, сложившейся коммуникативной обстановки.
Суд как правоприменительный институт не включает в систему своей работы герменевтические методы анализа текста. Категориальный аппарат: Истина, Правда, Ложь, Факт, Мнения, Доказательство, Честь, Достоинство, – имеющий свои основы в разных областях, примитивизируется, низводится до уровня простых единиц и подгоняется под ситуацию.
В ходе исследования данной проблемы удалось ввести в систему работы судов проведение текстологических экспертиз, что дало положительные результаты. Во многих судах Краснодарского края дела о защите чести, достоинства и деловой репутации рассматривают только после проведения языковой экспертизы, обращают внимание на коммуникативную ситуацию, событийную основу, не смешивают с эмоциональными примесями в тексте.
Исследование Концептов позволяет сделать вывод, что суд ориентируется на историческую сущность, не учитывая, в ряде случаев, языковую, психологическую основу Концептов. Языковые конкретизаторы, квалификаторы в текстах норм права, которые не дают возможности соблюдать диалектический баланс между абстрактным и конкретным, отодвигаются на второй план. Абстрактное (конституционализированное) «каждый гражданин имеет право» получает приоритетное право на удовлетворение, хотя ситуация, в журналистском тексте, свидетельствует о том, что «гражданину» должно быть отказано в реализации этого права. На языковом поле абстрактности – конкретности диалектический баланс не всегда соблюдается, допускается смещение информационных центров. Концепты, входящие в это поле, пресекающие его, варьируют смыслы Текста, давая неожиданные сочетания, исследование которых требует не бытового здравого смысла, а специальных экспертиз.
Исследованные Концепты относятся к фундаментальным категориям права и отражают свою соотнесенность с феноменами информации, подтверждают эволюционный характер, многоаспектную взаимозависимость.
Пунктом взаимодействия и взаимопересечения права и журналистики являются Концепты Правда, Ложь, Факт, которые включают онтологический, деонтологический, функциональный, семантический и прагматический параметры. «Зоны риска» в СМИ аналогичны «зонам риска» суда, который Субстанцию события изучает по формальным признакам, отталкиваясь от абстрактного «как должно быть» в праве, игнорируя «как есть» в жизни. Суд и СМИ оперируют фактами, но концептуальная природа фактов для суда и СМИ разная. Юридические и языковые факты субстанциально различные, отсюда следует, что и методики их исследования должны быть приближены к оптимальной вероятности, чтобы точно установить истинный/ложный характер.
Традиционные определения Текста вступают в противоречие в ходе судебного заседания по искам к СМИ о защите чести и достоинства, поскольку целый Текст, представленный в последовательности дискретных единиц, имплицитно содержит в себе коммуникативный фон и переплетение с другими Текстами, что вызывает значительные затруднения в его исследовании. Текст обладает двойственной природой, состоящей в постоянной потенциальной возможности его иного, от авторского замысла, прочтения, и является полем методологических операций. В журналистском тексте присутствует не один текст. Они базируются на Концептах, нередко вступающих в смысловые противоречия из-за своей природы «размытых отношений».
Текст не может быть истинным или ложным. Сложность текстовой организации зависит от многих факторов, передаваемых в виде оценочной информации, что характерно для журналистских текстов, судебных решений. В системе масс-медиа, дискурсе масс-медиа журналисты выступают посредниками между событием (фактом) и массовой аудиторией, взяв на себя роль агента-коммуникатора, формирующего общественное мнение, Суд выступает в роли апеллятора к Закону, инстанции, оценивающей справедливость, истинность/ложность журналистского мнения, регулятором правоотношений. Смысловые и языковые разнообразия Текста становятся «зоной риска», т. к. Закон индифферентен к богатствам языка и требует голого факта, что в сфере коммуникации невозможно, и приводит журналиста к драме обманутого знания.
Компенсация морального вреда
Проблема морального вреда и его возмещения имеет комбинаторную природу: с одной стороны, нравственная основа личности, собственная и социальная оценки, с другой – юридическая составляющая, предназначенная для защиты нравственной основы. Практика возмещения морального вреда имеет давнюю историю.
Исторические памятники дают основание полагать, что проблема компенсации морального вреда разрабатывалась и получила относительно выраженную форму уже в VIII веке нашей эры в Вестготской правде. Этот источник представляет собой кодекс законов, изданный вестготским королем Реккесвинтом около 654 г.
В кодекс, состоящий из 12 книг, которые в свою очередь делятся на 53 главы (титулы) и 526 статей, вошли законы вестготских королей, изданные в разное время. Большая часть статей Вестготской правды обозначена рубрикой Antiqua u Antiqua emendata. Первая рубрика – это старые законы, включенные без всяких изменений в кодекс Реккесвинта, вторая – это законы, в которые редакторами кодекса внесены какие-либо изменения.
В кодексе определены презумпции возмещения морального вреда. К примеру, в статье «О талионе и о размерах штрафов, которыми компенсируется талион» (Талион – применяемый уголовным правом рабовладельческого и раннефеодального общества вид репрессий, заключающийся в возмездии тем же) говорится: «…Если свободный человек острижет или прикажет остричь чужого сельского раба, возмещает его господину 10 солидов; если же – почтенного раба (servum idoneum), то наказывается ста ударами бича и уплачивает упомянутое выше количество солидов…»
Следует отметить, что понятие морального вреда в этом и других юридических памятниках пока присутствует имплицитно, т. е. скрыто, поскольку само понятие «моральный» еще входит в юридическую термино-систему и находится пока в дефиницинарном пространстве философии и этики.
В памятнике англосаксонского права Судебнике кентского короля Этельберта (560–616) обращено внимание на юридическую проблему компенсации морального вреда. К примеру, в статье 17 говорится: «Если какой-нибудь человек вторгнется силой в чей-нибудь двор, он должен уплатить [хозяину] возмещение в 6 шиллингов; тот, кто войдет вслед за ним, уплатит три шиллинга, каждый следующий – 1 шиллинг». Здесь присутствуют действия двух положений: защита права от вторжения на территорию владельца и защита его чести и достоинства, т. е. моральной (нравственной) составляющей каждой свободной личности.
Возмещение морального вреда более ярко выражено в статье 24 законов Этельберта: «Если кто-либо свяжет свободного человека, должен уплатить 20 шиллингов». Следует отметить, что штраф за нанесенный свободному человеку моральный вред был достаточно велик. Для сравнения можно привести статью 6 из этого Судебника, по которой за убийство свободного человека, убийца должен уплатить королю 50 шиллингов.
В нашу задачу не входит анализ исторических памятников, но даже поверхностное знакомство с ними дает возможность полагать, что они оставили свой след в истории юридической теории и практики и в моральном сознании народа.
«А. Я. Гуревич в работе «Категории средневековой культуры» обращает особое внимание на то, что роль юридических отношений… возрастала вследствие высокой ритуализованности общественной практики людей средневековья. В традиционном обществе нормальным было поведение человека, следующее принятым образцам, не уклоняющееся от раз и навсегда установленного канона. Такие образцы приобретали силу моральных эталонов, и отход от них рассматривался не только как предосудительный, но подчас и как правонарушение».
Мораль является непосредственной составляющей любого общества. Основополагающим учением о морали (нравственности) считается учение Аристотеля, в частности его «Никомахова этика», где заложены квалификации морального вреда, его разделение по стратификационным полям.
Аристотель вводит понятие добродетели, которая может подвергаться покушениям, именуемым моральным вредом. В «Никомаховой этике» Аристотель пишет: «Поскольку [нравственная] добродетель связана со страстями и поступками, причем за произвольные страсти и поступки хвалят или осуждают, а непроизвольным сочувствуют, и иногда даже жалеют за них, то при внимательном исследовании добродетели необходимо, вероятно, разграничить – произвольные и непроизвольные; это могут использовать и законодатели, [назначая] награды и наказания» (11, 95).
Таким образом, добродетель есть категория не априорная, т. е. данная до опыта, а является категорией аксиологической, т. е. оценочной. И человек, обладающий признанными в его общественном круге добродетелями или обладающий общественным положением, которому приписаны соответствующие оценки либо традиционные добродетели, тщательно их оберегает от вторжения в эту сферу. Даже Аристотель уже в «Большой этике» развивает мысль о добродетелях как о благе и в итоге приходит к мысли, что добродетели являются неимущественными благами, которые нуждаются в законодательной защите: «ценимое – это почитаемое, и именно такого рода вещи у всех в чести. Добродетель тоже ценность, раз благодаря ей человек становится достойным» (11, 300).
Далее Аристотель концептуализирует в пространстве вреда понятие справедливости: «справедливость – это гражданская справедливость, т. е. она больше всего сводится к равенству» (11, 327) <…> «А как с перенесением несправедливости ? Можно ли добровольно терпеть несправедливость? Или, скорее, нельзя? В самом деле, мы добровольно совершаем справедливые и несправедливые поступки, но терпим несправедливость от других не добровольно. Добровольно никто не терпит вреда себе, а терпеть несправедливость – это значит терпеть вред» (11, 329). А вред должен быть компенсируем.
Защита нравственных добродетелей, возмещение морального вреда было присуще и законодательству Древней Руси. Безусловно, древнерусское право соответствовало тому типу государства, в котором существовало. Как всякое феодальное право, оно было правом привилегий, т. е. закон прямо предусматривал, что равенства людей, принадлежащих к разным социальным слоям, нет и быть не может. Уже в «Русской Правде» киевского князя Ярослава Мудрого (1015–1054) присутствуют статьи, налагающие обязанность компенсации морального вреда на причинителя этого вреда. Из 18 статей Краткой Правды Ярослава Мудрого 7 статей посвящены действиям, порочащим честь и достоинство, и как следствие – компенсации морального вреда. Таким образом, нравственные (моральные) устои древнерусского общества защищались силой закона, причем была дифференцирована система деликтов. Мнение самого потерпевшего о причиненном ему моральном вреде в расчет не принималось, необходимы были действия, четко и однозначно квалифицируемые как действия, наносящие моральный вред. В статье 3 краткой редакции «Русской Правды» говорится: «Аще кто кого ударить батогом, либо жердью, либо пястью, или чашею, или рогом, или тылеснию, то 12 гривен…» (223, 19). Статья рассматривает предметы, которыми наносятся побои: батог, жердь, ладонь, рог, тыльная сторона острого предмета. Поскольку лишить жизни этими предметами весьма затруднительно, то законодатель определяет эти побои или удар как явное намерение одной стороны события причинить нравственные страдания другой стороне. И здесь важен не сам удар или боль, а моральный вред. Следует отметить, что компенсация морального вреда в сумме 12 гривен была довольно значительной, т. к. за 1 гривну в XI веке, т. е. во время «Русской Правды», можно было купить корову. Компенсация морального вреда стояла на четвертом месте по денежному эквиваленту: за убийство тиуна (княжеского управителя) – 80 гривен, за убийство свободного гражданина Киевской Руси – 40 гривен, за отсечение руки, что приравнивалось к убийству, – 40 гривен, и компенсация морального вреда вследствие нанесения оскорбления – 12 гривен. А вот отсечение пальца или выбитый зуб стоили дешевле – 3 и 1 гривна.
В пространстве русского законодательства домонгольского периода, в отличие от западноевропейского и византийского, не было членовредительства как меры воздействия на преступника. Карательная практика, основываясь на системе штрафов, довольно высоких, регулировала внутриобщественные отношения.
Библейский запрет остригать волосы впервые отразился в статье 24 Устава Ярослава Мудрого, но он относился к женщинам. Позднее, при его сыновьях и В. Мономахе, насильственное повреждение прически, бороды и усов было квалифицировано как тяжкое оскорбление, наносящее моральный вред и безусловно подлежащее компенсации. В статье 67 Пространной Правды говорится: «А кто порвать бороду, въиешь значение а вылезуть людие (т.е. свидетели), то 12 гривен продаже; а без людие, а в поклепе, то нету продаже» (223, 23). В этой статье уже регламентируется и процессуальная сторона дела – должны быть представлены вещественные доказательства (знамения) и свидетели. Без них, свидетелей, обвинение рассматривалось как клевета (поклеп) и компенсация (штраф) не взимался.
Трепетное отношение к волосам на голове, и вообще к волосам, имеет очень древнюю историю. Голова считалась табуированной частью тела, такая же степень святости приписывалась и волосам. К примеру, Д. Фрезер в своей книге «Золотая ветвь: Исследование магии и религии» пишет, что «франкским королям совсем не разрешалось стричь волосы; они ходили неостриженными с самого детства. Состричь завивавшиеся до плеч локоны означало отказаться от права на трон. Когда коварные братья Хлотарь и Хильдеберт домогались королевства своего умершего брата Хлодомера (VII в.), они хитростью заманили к себе двух малолетних племянников, сыновей Хладомера. Затем они послали в Париж к королеве Клотильде, бабушке детей, гонца с ножницами и обнаженным мечом. Гонец предъявил королеве ножницы и меч и поставил перед выбором: или детей постричь и они останутся живы, или их ждет смерть. Гордая королева ответила, что, если ее внукам не суждено носить корону, она предпочла бы видеть их мертвыми, но не постриженными».
Институт компенсации морального вреда имеет давние и глубокие традиции, выполняет нравственную, социальную функцию, а именно охрану неприкосновенности нравственных основ личности, его самооценки и общественной оценки, т. е. добродетельный образ личности. Институт компенсации морального вреда выполняет функцию социальной защиты.
В рамках нашей темы необходимо разобрать определения, входящие в данную терминосистему, поскольку любая терминосистема хоть и имеет определенный коэффициент семантической (смысловой) погрешности, все же дает ориентиры в исследуемом пространстве.
Большой академический словарь дает следующее определение термину: «Мораль (от лат. moralis – нравственный), 1) нравственность, особая форма общественного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения); один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая или традиции нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, справедливости и т. п. В отличие от права исполнение требований морали санкционируется лишь формами духовного воздействия (общественные оценки, одобрения или осуждения). Наряду с общечеловеческими элементами мораль включает исторически преходящие нормы, принципы, идеалы».
«Мораль, нравственность, нрав» в Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля определяется следующим образом: «мораль – нравоучение, нравственное учение, правила для воли, совести человека». «Нрав – вообще, одна половина или одно из двух основных свойств духа человека: Ум и нрав слитно образуют дух (душу) // Общее выражение свойств человека, постоянных стремлений воли его, характер // Добронравный, добродетельный, благонравный; согласный с совестью, с законами правды, с достоинством человека, с долгом честного и чистого сердцем гражданина» (96, 558).
В рамках положения «моральный вред» присутствует квалификатор «вред». Необходимо, на наш взгляд, несмотря на кажущуюся простоту, дать характеристики и этой дефиниции. «Вред, вредить» заимствовано из церковнославянского языка «веред». В Этимологическом словаре русского языка М. Фасмера дается такое толкование: «веред (вред) – нарыв, гнойник; древнерусское «рана, нарыв»; словенское «повреждение; вередить – бередить, растравлять (рану)» (273, 295).
Аналогичное толкование термина мы находим у В. Даля: «вредить – повреждать, причинять зло, ущерб здоровью, обиду личности, убыток собственности, делать вред, портить; вред, вреда, вереда – последствия всякого повреждения, порчи, убытка, вещественного или нравственного, всякое нарушение прав личности или собственности, законное и незаконное» (96, 261).
В обыденном использовании языковых средств встречается замена термина «вред» термином «ущерб». «Ущерб моральный/моральный вред) – в праве вред (физические или нравственные страдания) причиненный действиями, нарушающими личные неимущественные права или посягающие на другие нематериальные блага. Пример морального вреда – умаление достоинства личности, подрыв репутации и т. п. Компенсируется в денежной или иной материальной форме в размере, определяемом судом» – так презумирует эту категорию Большой энциклопедический словарь.
Юридическая энциклопедия дает следующее толкование целого терминологического ряда, а именно «компенсации морального вреда». «Компенсация морального вреда» – принцип правовых систем большинства развитых стран, имеющий ограниченное применение в контрактном праве и относящийся в основном к сфере деликатных правоотношений. В соответствии с гражданским законодательством РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Согласно ст. 1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими неимущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом, причем независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Основания компенсации морального вреда предусмотрены ст. 1100 ГК РФ, согласно которой компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя морального вреда в случаях когда: а) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; б) вред причинен гражданину в результате его незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; в) вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; г) в иных случаях, предусмотренных законом. Согласно ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме» (262, 205).
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.
Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий» говорится в Постановлениях Пленумов Верховного Суда Российской Федерации за период 1994–1996 гг.
Здесь появляется, наряду со старым квалификатором «страдания», новое определение – «нравственные переживания», т. е. за счет наполнения синонимического ряда идет приближение нравственного чувствования события, действия/бездействия в контактной, реальной ситуации.
Нематериальные блага граждане получают в силу рождения, неимущественные права они приобретают в силу закона. Нарушение и тех и других может приносить нравственные страдания, переживания, т. е. моральный вред. Поэтому они защищаются законом. В частности, ст. 150 ГК РФ «Нематериальные блага» содержит квалифицирующие признаки понятия «нематериальные блага»: «Жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя» (131, 329).
Безусловно, что номенклатура признаков нематериальных благ имеет примерный характер, дает ориентацию в пространстве нематериальных благ, определяет их смысловую нагрузку: а) нематериальные блага лишены материального, т. е. имущественного содержания; б) их нельзя оценить в денежном выражении; в) нематериальные блага (неимущественные права) обязательно связаны с личностью их носителя; г) эти блага (права) неотчуждаемы; д) эти блага (права) могут защищаться и после смерти их носителя.
Формула «компенсация морального вреда» взыскивается «также в других случаях, предусмотренных законом», предусматривает компенсацию морального вреда при нарушении имущественных прав. Применение этой формулы возможно при нарушении Закона о защите прав потребителей. Он применяется к отношениям, возникающим из договоров: розничной купли-продажи; аренды, включая прокат; найма жилого помещения; подряда (бытового, строительного и т. д.); перевозки граждан, их багажа и грузов; на оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение личных (бытовых) нужд граждан и т. д. В рамках нашего исследования можно привести пример из книги С. А. Беляцкина «Возмещение морального (неимущественного) вреда», касающегося «перевозки пассажиров и их грузов». Так, С. А. Беляцкин пишет, что «генуэзский суд 10 мая 1898 г. присудил 1400 лир пассажиру, который в сорвавшемся вагоне электрического трамвая подвергся «опасному путешествию».
Пространство понятия «компенсация морального вреда» целенаправленно изложено в ст.ст. 1099, 1100, 1101 ГК РФ.
В ст. 1099 говорится, что: «Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.
Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда» (131, 717).
Один из квалифицирующих признаков нравственных страданий – причинение вреда жизни и здоровью – реализован в статье 1084 ГК РФ «Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств». И если в законе предусмотрена возможность компенсации морального вреда, то лицу, чьи права, основанные на этом законе, нарушены, не обязательно представлять доказательства причинения морального вреда. Право на эту компенсацию оно имеет в силу закона, и суд определяет лишь размер компенсации в каждом конкретном случае на основании ст. 1101 ГК РФ.
Таким образом, моральный вред является составляющей любого деликта против личности и ее прав.
Статья 1100 ГК РФ определяет положения, при возникновении которых компенсируется моральный вред. «Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:
– вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;
– вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;
– вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;
– в иных случаях, предусмотренных законом».
Проблема компенсации морального вреда по п. 2 ст. 1100 ГК РФ имеет давнюю историю. О невинно привлеченных к суду и следствию много писалось в начале XX века. Представляет интерес статья Л. Бызова (Санкт-Петербург) в журнале «Вестник знания» в № 3 за 1914 год. Вопрос о невинно осужденных особенно активно стал обсуждаться после дела Бейлиса, который провел два года в тюрьме, будучи невиновным в инкриминируемом ему преступлении. Л. Бызов пишет: «Судебные ошибки бывают всюду, никакой суд от них не гарантирован; тем более, конечно, часты случаи неправильных привлечений к суду, арестов и проч., кончающихся оправданием или прекращением дела до суда; мы, русские, лучше всех знаем, как легко, без всякой вины со своей стороны, очутиться за решеткой. Неужели не обязано государство загладить в меру возможности зло, которое оно причиняет ни в чем не повинному человеку?»
Закрепление за личностью конституционных прав и свобод ограничивало опеку и жесткий диктат государства над личностью. Государство создано в интересах общества и только интересами общества может быть оправдан вред, который причиняется отдельным лицам. Одна из задач государства – обеспечение спокойствия в обществе путем изоляции преступников. Но, пишет далее Л. Бызов, «если случаи (незаконного) такого привлечения бывают, то происходят они только вследствие неумелой постановки дела правосудия; не вина общества или отдельного гражданина, если система розыска настолько плохо организована правительством, заменяющим, по крайней мере, в идее, общество, что судебные органы функционируют неудачно и ошибаются».
Идея компенсации морального вреда (в данном случае государственного вознаграждения) составляет только часть более общего вопроса о «вознаграждении» лиц, вообще пострадавших от действий той или другой государственной, – судебной, административной и полицейской, – власти. Впервые мысль о государственном вознаграждении, т. е. компенсации морального вреда, за необоснованное привлечение к суду высказал известный ученый XVII века Пуффендорф в своем сочинении «De jure nature et qentium», вышедшем в 1672 г. Но эта мысль не нашла, да и не могла найти отклика в то время. В XVIII веке вопрос восстановления доброго имени и компенсации морального вреда волновал известных ученых, в частности Вольтера, особенно в деле Жана Каласа, приговоренного к колесованию по обвинению в убийстве своего сына на почве религиозного фанатизма. В то время шло бурное обсуждение проблемы прав гражданина и человека, многочисленных судебных ошибок и нарушений процедуры следствия. В 1781 г., накануне революции во Франции, Академия наук в Шалоне-на-Марне предложила лучшим юристам того времени высказать свои соображения по вопросу об удовлетворении, которое могло бы дать государство невинно осужденным. В большинстве проектов была высказана мысль о нравственном вознаграждении (компенсации). Идея материального вознаграждения не вызвала общего сочувствия. В рамках нравственного вознаграждения лауреат премии Академии Филипп де ла Маделен предлагал следующую процедуру моральной компенсации: возлагать на оправданного белую ленту с крестом или медалью, на лицевой стороне которой выбиты слова: «признанная невиновность», а на оборотной – две пальмовые ветви и день оправдания; оправданного должны были возить по городу в украшенной колеснице в сопровождении ликующего народа. Были предложения дни оправдания невиновного считать патриотическими праздниками как компенсацию морального вреда; раздавать оправданным доходные государственные должности, освобождать от некоторых повинностей.
В 1789 г. от имени французского короля Людовика XVI министр юстиции внес в Учредительное собрание проект, по которому: а) о невинно осужденных и их невиновности за счет государства публиковалась информация во французских газетах; б) невинно осужденным выплачивалось денежное вознаграждение за причиненный им государством моральный вред. После долгих прений Учредительное собрание отклонило проект, а буржуазная революция, наполеоновские войны надолго отодвинули решение этого вопроса.
Вслед за Францией разработкой идеи компенсации морального вреда «в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности» и т. д. занялись в Германии, Италии и других странах Европы. У идеи компенсации морального вреда в денежном выражении были и противники, которые утверждали, что введение системы компенсации ляжет тяжким грузом на государственную казну. Защитники компенсации оперировали другими аргументами, что при хорошо поставленном предварительном следствии, при достаточных гарантиях свобод личности, а следовательно, при отсутствии слишком продолжительного предварительного содержания под стражей, вознаграждение за моральный вред будет чем-то исключительным.
Россия не осталась в стороне от общеевропейского обсуждения и решения вопроса компенсации морального вреда. Российское законодательство конца XIX – начала XX века признавало право на вознаграждение, но только против частных лиц, возбудивших преследование, или незаконно действовавших должностных лиц. Но государственного вознаграждения российское законодательство не предусматривало. За оправданными признавалось право на опубликование приговора в сенатских ведомостях и «Правительственном вестнике», т. е. только в двух изданиях, хотя дореформенное (1857) законодательство давало возможность и признавало право за оправданным публиковать за счет правительства повсеместно в российских изданиях информацию об оправдательном приговоре. Чиновникам, оправданным по суду, государство выплачивает жалование (зарплату) за время содержания под стражей.
О компенсации морального вреда государством есть немало публикаций в прессе XIX и начала XX века. К примеру, в 1823 г. было выдано по 2000 руб. и представлен безвозмездный выход из крепостного состояния крестьянам Шепелюхину, Лобанову, Лягушкину, Борзенкову, приговоренным в 1817 г. к каторге за убийство дворянки Марии Алтуховой. В № 245 за 1903 г. в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» сообщалось о выдаче 100 руб. крестьянину Сыч-Сыченко за незаконное применение меры пресечения и нахождение 2 месяца под стражей. В 1912 г. пяти невинно осужденным по делу армянской партии «Дашнакцутюн» была выплачена компенсация: одному – 300 руб., второму – 350 руб., остальным – по 150 руб.
Не признавая в целом института компенсации морального вреда, российское законодательство давало возможность оправданному (ст. ст. 780–782 Устава Уголовного Судопроизводства) требовать вознаграждения от отдельных лиц, как частных, так и должностных. В соответствии со статьей 783 Устава Уголовного Судопроизводства оправданный имел право «искать вознаграждения» с должностных лиц, в том числе с судебного следователя и прокурора. Однако сама процедура компенсации была обставлена множеством условий: оправданный должен был доказать, что следователь или прокурор действовали пристрастно, недобросовестно, с нарушением норм.
На современном этапе развития российского общества в соответствии со ст. 1100 ГК РФ подлежит возмещению моральный вред, причиненный гражданину в связи с деятельностью правоохранительных органов (суда, прокуратуры, милиции). Причем этот вред компенсируется независимо от вины этих органов лишь в тех случаях, если он причинен гражданину в результате незаконного: осуждения; привлечения к уголовной ответственности; применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде; наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. Компенсация морального вреда производится в порядке, определенном п. 1 ст. 1070 ГК РФ. В иных случаях ответственность правоохранительных органов за причиненный моральный вред может быть установлена лишь при наличии их вины и возмещается по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 1070 ГК РФ.
Данная статья гласит: «Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности и т. д. (по тексту статьи), возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом…
Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу».
Право на возмещение вреда в сфере правосудия возникает при условии: постановления оправдательного приговора, прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления, прекращения уголовного дела за недоказанностью участия гражданина в совершении преступления, прекращения дела об административном правонарушении. Право на возмещение такого ущерба возникает лишь в случае полной реабилитации гражданина.
Статья 1100 ГК РФ предусматривает компенсацию морального вреда, если «вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию». Независимо от вины моральный вред компенсируется, если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности. Следует отметить, что моральный вред компенсируется потерпевшему лишь при наличии вины причинившего вред. Это правило содержится в ст. 151 части первой ГК РФ. В случае же, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Моральный вред может быть возмещен судом независимо от разрешения требования о возмещении имущественного вреда, в том числе и при рассмотрении иска об этом в самостоятельном производстве.
Нравственные страдания тесно связаны с такими категориями, как честь, достоинство и репутация (в ст. 152 ГК РФ говорится о деловой репутации). Честь и достоинство личности охраняются государством в соответствии с Конституцией.
Статья 21 Конституции РФ гласит: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». Логическим продолжением этой статьи является статья 23 Конституции РФ: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени».
Номенклатура положений и законодательных актов, защищающих честь, достоинство и доброе имя гражданина, расширяется. Человек может испытывать нравственные страдания при нарушении его прав: при предъявлении иска по основаниям систематического нарушения правил общежития, при отсутствии доказательств, подтверждающих нарушения; при необоснованном увольнении по порочащим мотивам; при предъявлении иска о лишении родительских прав со ссылкой на злоупотребление этими правами, жестоком обращении с детьми, когда приведенные истцом доводы являются обоснованными.
Проблема возмещения морального вреда в настоящее время привлекла пристальное внимание юристов – теоретиков и юристов – практиков. И после более чем полувековой истории о ней заговорили серьезно, поскольку понятие «морального вреда» хоть и присутствовало имплицитно в Гражданском кодексе, принятом 1 октября 1964 г., но о компенсации морального вреда речи даже не шло, ибо эта процедура считалась присущей буржуазному праву. К примеру, статья 7 Гражданского кодекса 1964 г. в отличие от статьи 152 Гражданского кодекса РФ (1 января 1995 г.) не предусматривает компенсации морального вреда. Обратимся к тексту статьи 7 ГК РСФСР. «Гражданин или организация вправе требовать по суду опровержения порочащих их честь и достоинство сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Если указанные сведения распространены в печати, они, в случае несоответствия их действительности, должны быть опровергнуты также в печати. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в доход государства. Штраф взыскивается в порядке и в размере, установленных Гражданским процессуальным кодексом РСФСР. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие» (131,. 25). В соответствии со ст. 7 ГК РСФСР моральный вред, нанесенный распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство гражданина (организации), компенсируется только опровержением в печати либо иным способом, установленным судом. О денежной компенсации речи не идет. О компенсации морального вреда в денежном выражении за распространение сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, говорится в п. 5 ст. 152 ГК РФ: «гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением» (131, 334).
Концепция возмещения морального вреда не была до конца осмыслена, что привело к противоречиям, которые заложены в п. 7 статьи 152 ГК РФ. «Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица». То есть данное положение предусматривает компенсацию морального вреда, о которой вправе заявлять юридическое лицо. Но моральный вред связан с нравственными (моральными) страданиями, которые в силу своей природы юридическое лицо испытывать не может. Юридическое лицо вправе требовать только возмещения убытков, причиненных распространением не соответствующих действительности сведений. И в этом случае применение статьи 151 неправомерно. Но появляется понятие о «репутационном вреде», что считается приравненным к моральному вреду и нравственным страданиям, которые испытывают юридические лица – банки, предприятия, администрации и т. д.
Отсюда следует, что возмещение морального вреда рассматривается законодателем как мера социальной защиты, причем в советский период «теория и практика в Советском государстве почти единодушно отрицала возможность применения института возмещения морального вреда, так как это было «чуждо советскому правосознанию» и еще по той причине, что «личность выше того, чтобы ее достоинство можно было оплачивать» (3, 57).
По мнению Антона Леонидовича Анисимова, «цель института возмещения морального вреда в прямом смысле ничего общего не имеет с экономикой, но тем не менее он выполняет нравственную социальную функцию – охрану неприкосновенности личности, то есть функцию социальной защиты».
Концептуальное понятие «личность» в общественном сознании включает в себя право не только физической неприкосновенности, но нравственной. Неимущественный (моральный) вред есть посягательство на внутреннюю жизнь, оценка человека как социальной данности и связан внутренними переживаниями, которые переживаются подчас глубоко, ломая привычную жизнь. Переживания не поддаются квалификации и не могут быть изложены в номенклатурной сетке. Моральный (неимущественный) вред иногда более чувствителен, чем имущественный вред.
«Моральный вред, заключающийся в нравственном или физическом страдании сам по себе, как таковой, не может быть, конечно, возмещен, и причиненные мучения не могут быть ни за какие деньги восстановлены. Деньги не в состоянии… возвратить душевное спокойствие, заставить забыть о невозградимой потере. Но это не значит, что моральный ущерб не может быть хоть как-нибудь компенсирован, что пострадавшему не может быть дано удовлетворение, которое явилось бы для него возмещением причиненных страданий». Действительно, ввиду отсутствия иного, лучшего способа дать потерпевшему удовлетворение, этим способом может служить денежная компенсация. Разумеется, практически невозможно дать более или менее точную оценку морального (неимущественного) вреда, но таковой эквивалентности (равноценности) и не требуется. Суд, основываясь на специфических «особенностях каждого дела, на степени и характере морального вреда, на имущественном положении ответчика и потерпевшего, всегда может установить форму и сравнительно справедливые размеры компенсации» (3, 57–58).
Разработкой темы компенсации морального вреда в советский период занимались известные юристы. К примеру, И. Брауда в работе «Возмещение неимущественного вреда», опубликованной в № 9–10 за 1926 г. в журнале «Революционная законность», считал, что при нанесении имущественного вреда у потерпевшего возникает «неимущественный интерес», т. е. моральный вред из-за поврежденного имущества.
К. М. Варшавский полагал, что моральный вред есть особая, специфическая форма имущественного вреда, только причиненная не имуществу, а личности, и что этот неимущественный (моральный) вред косвенно отражается на имущественном положении гражданина. Эти соображения были им высказаны в работе «Обязательства, вытекающие вследствие причинения вреда другому», опубликованной в 1929 году.
Если экстраполировать эту мысль К. М. Варшавского на сегодняшний день, то можно ее воспринимать как попытку обосновать возмещение морального вреда за ущерб, причиненный деловой репутации.
Представляют интерес работы: П. Я. Трубникова «Применение судами Закона о печати» (опубликована в журнале «Социалистическая законность» № 11, 1991 г.), Н. С. Маминой «О моральном вреде» (журнал «Советское государство и право» № 3, 1993 г.), М. Я. Шиминовой «Имущественная ответственность за моральный вред» (журнал «Советское государство и право» № 1, 1970), Е. Е. Матульской «Проблемы возмещения морального вреда в трудовом праве» (Вестник Московского университета, Серия 11, Право, № 1, 1994), А. П. Сергеева «Право на защиту репутации» (Ленинград, 1989), К. И. Голубева и С. В. Нарижнего «Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ личности» (Санкт-Петербург, 2000), А. М. Эрделевского «Моральный вред и компенсация за страдания» (Москва, 1998), С. В. Потапенко «Судебная защита от диффамации в СМИ» (Краснодар, 2002).
В сущности все ученые приходят к выводу, что «в результате совершенного против личности правонарушения могут наступать или уже наступили негативные последствия в самой различной сфере ее деятельности. В любом случае моральный вред представляет собой… претерпевание нравственных страданий, сужение свободы личности, и он не должен оставаться вне сферы права» (3, 59).
На наш взгляд, весомый вклад в разработку проблемы компенсации морального вреда внес Семен Абрамович Беляцкин (родился в 1874 г.). Долгое время работал адвокатом, был активным участником Юридического общества, выступал с различными докладами. Печатался в «Восходе», «Будущности» и «Вестнике гражданского права». 24 ноября 1910 г. выступил с докладом «Возмещение морального (неимущественного) вреда. В двадцатых годах он переезжает в Литву, где с 1922 по 1940 год работал на юридическом факультете Каунасского университета. Во время оккупации немецко-фашистскими войсками г. Каунаса Беляцкин подвергался гонениям. Был направлен в концентрационный лагерь Освенцим, где погиб в 1944 году.
За время адвокатской деятельности он написал ряд работ, посвященных вопросам защиты прав граждан в период военных действий. Среди них: «Война и правосудие» (К вопросу о правовом положении на суде подданных воюющих держав), «Война и государственное вознаграждение» (К вопросу о возмещении населению убытков от военных действий) и т. д. Для нас же представляет особый интерес его работа «Возмещение морального (неимущественного) вреда», опубликованная в 1913 г. в Санкт-Петербурге.
С. А. Беляцкин пишет, что «не только в университетах, но и в судебной практике господствовало твердое убеждение, что вознаграждению подлежит исключительно ущерб, нанесенный в имущественной среде. Какие бы нравственные муки ни причинены были потерпевшему, последний лишен был возможности предъявлять за это требование, коль скоро не затронуто его экономическое благосостояние (и сколь скоро он не вправе был домогаться присуждения денежной суммы, установленной специально, как вознаграждение за физическую боль – Schmerzgeld). Деликвент (от лат. – правонарушитель) мог сказать потерпевшему: своим поступком я нарушил твой покой, быть может навсегда, я заставил тебя проводить бессонные ночи, исковеркал всю твою индивидуальную личность, но раз в твоем имуществе нет от этого минуса, мы с тобой перед лицом гражданского права в расчете». Первой страной, по мнению С. А. Беляцкина, преодолевшей моральное ханжество и мысль о том, что стыдно присуждать и получать деньги за моральный (неимущественный) вред, была Англия: «Английская система вознаграждения за моральный вред удивляла и удивляет своей житейской гибкостью и глубоким практическим смыслом. Неуклонное стремление судей давать удовлетворение каждому пострадавшему за счет виновного, не упуская ни одного случая, постоянное присуждение денежных сумм с нарушителей чужих личных прав и благ, – не только частных лиц, но и лиц должностных – во многом содействовали в Англии выработке идеала гражданина и служителя государства, укрепляя уважение к чужому праву и чужой личности как в обывателе, так и в носителе власти».
Беляцкин излагает и прогностический взгляд на проблему компенсации морального вреда: «кто внимательно следит за нашей судебной практикой, мог убедиться, что возмещение морального вреда вырастает у нас в крупный вопрос гражданского права. <…> Проблема возмещения морального вреда касается предмета большой важности, которому суждено в будущем играть видную роль».
Глубинная суть вопроса заключается в том, и это подчеркивает С. А. Беляцкин, что «под моральным вредом, подлежащим возмещению, разумеют страдания и лишения физические и нравственные, причиненные потерпевшему неправомерной деятельностью деликвента. Всякая неправомерная деятельность может заключаться в нападении на блага имущественные и неимущественные. Но с точки зрения возмещения вреда важно не благо, на которое совершено нападение, а результат нападения, насколько он отразился на имущественной или моральной сфере пострадавшего». Безусловно, что посягательство на личное благо в результате приводит к чисто имущественному вреду: физические травмы – потеря трудоспособности и заработка, диффамация и публичное распространение клеветы подрывают репутацию и кредит доверия к пострадавшему от клеветы. Все это опосредованный имущественный вред, отличие которого от имущественного вреда заключается в том, что «неправомерная деятельность имеет прямым объектом не экономическое благосостояние пострадавшего лица, а его личный и идеальный мир, убытки же являются косвенным результатом этой деятельности».
О нравственных страданиях Беляцкин пишет с определенной долей пафоса и в высокой тональности правовой публицистики. Здесь есть необходимость привести довольно-таки расширенную, но необходимую, на наш взгляд, цитату из его работы. «Если под возмещением морального вреда понимать исключительно приведение нарушенного блага в то состояние, в котором оно находилось до нарушения (реституцию), то, строго говоря, моральный вред не возместим. Присуждение денежного эквивалента, способное устранить имущественный вред, не в состоянии погасить вред моральный. Орган человеческого тела, отрубленный, душевное спокойствие, отнятое, не покупаются и не продаются. Но невозможность реституировать для потерпевшего, уничтожить для него причиненный моральный вред еще не означает, что немыслимо возмещение в ином смысле, немыслимо такое удовлетворение, которое могло бы и с точки зрения субъективной потерпевшего и с точки зрения объективной считаться более или менее достаточным возмездием за причиненные страдания. Служащие общим критерием и мерилом ценностей и прав деньги должны и в данном случае явиться средством удовлетворения потерпевшего. Если денежное вознаграждение не будет здесь реституцией, то оно будет, по крайней мере, компенсацией. «Лицо, оскорбленное в своих чувствах, в своей репутации, имеет право добиваться приватной компенсации за свои страдания», – замечает Souvdat, – «таковую ему дают в деньгах за отсутствием лучшей меры. Но денежное вознаграждение является не только тем крайним средством, о котором говорит Souvdat: оно может считаться в некотором роде даже естественным последствием совершившегося нарушения. За деньги приобретаются блага, служащие к удовлетворению потребностей физических и духовных. Причинив ущерб моральной сфере данного лица, отняв у него одно из духовных благ, деликвент должен быть готов, что с него потребуют доставления потерпевшему того, чем духовные блага могут быть приобретены, т. е. уплаты денежной суммы. При этом совершенно нет надобности в полном равновесии между затронутым моральным благом и денежным эквивалентом. Нет необходимости, чтобы чашки весов, на которые положен «презренный металл», с одной стороны, и «моральный вред» – с другой, взаимно уравновешивались, как весы благонравного торговца. Когда дело касается возмещения вреда в предметах, имеющих рыночную ценность, достижимо идеальное равновесие, но вознаграждение за предметы домашней обстановки, особенно старинные, за сорванные и потоптанные цветы в саду или срытый и увезенный чернозем заключает в себе элементы не столько реституции, сколько компенсации. Здесь судья, не желающий ограничиться одной формальной оценкой поврежденных предметов, руководствуется не только материальным, но и имматериальным вредом, определяя вознаграждение за то и другое. В случаях причинения одного морального вреда речь может идти исключительно о компенсации».
Интересную точку зрения предложил профессор Н. С. Малеин при анализе формулы – «умаление чести и достоинства». По мнению Н. С. Малеина, «следует признать, что применение мер ответственности умаляет, унижает честь и достоинство правонарушителя и, значит, он претерпевает неблагоприятные последствия морального характера (стыд, унижение и т. д.)». Словом, можно говорить об опосредованном, в мягком варианте действий правила: «око за око, зуб за зуб», поскольку потерпевший испытал нравственные страдания, то и причинитель морального вреда тоже должен испытать страдания, но по решению суда.
М. Я. Шиминова, занимаясь проблемой компенсации морального вреда, выделяет в возмещении восстановительную функцию, которая «преследует и более широкую цель – предупредить появление вредоносных фактов, а следовательно, в конечном счете и защитить от посягательств личности». Здесь Шиминова допускает ошибку в значении терминов – «вредоносный» и «факт». Моральный вред может быть вызван распространением сведений не соответствующих действительности, которые по своей языковой и юридической природе фактами не являются, поэтому «вредоносных фактов» как таковых быть не может. Если сведения не содержат в себе фактической основы, то они не являются фактами, и их нужно относить к диффамации. Терминологическая небрежность породила неясность и запутанность понятия. Факт – это всегда соответствие действительности, и если нет основополагающего признака, то это не факт, а мнение, впечатление, суждение и т. д. Опубликование сведений, соответствующих действительности, т. е. фактов, безусловно, может повлечь за собой нравственные страдания, переживания. Примеров такого рода предостаточно. Директор развалил предприятие, рабочим не платил зарплату, а себе и родственникам отстроил дома и купил иностранные машины и т. д. Опубликование этих фактов причиняет нравственные страдания, вызывает переживания у персонажа статьи. По мнению М. Я. Шиминовой, здесь проявили свое действие «вредоносные факты», которые нужно предупредить, и в итоге мы видим предложение посягательства на свободу слова.
Подобная логика рассуждений, к сожалению, бытует и в практике. В газете «Туапсинские вести» (18 июня 2002 г.) опубликована статья «Кто спасет утопающих от протечек?», в которой речь идет о домах с протекающими во время дождей крышами и низком качестве строительно-монтажных работ. Среди строительных организаций, дома которых «протекают», названа фирма «СВ-Сатурн». И назвал эту фирму главный архитектор города Туапсе, т. е. специалист, имеющий на руках все необходимые документы – экспертизы, заключения, акты обследования. Учредители фирмы «СВ-Сатурн» подали в суд на газету иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В Туапсинском городском суде в обеспечение иска вынесено определение: «рассмотрев поступившее от …исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, Установил:…обратились с исковым заявлением к редакции газеты «Туапсинские вести» и главному архитектору г. Туапсе… о защите чести, достоинства и деловой репутации, и учитывая, что имеются основания для принятия мер по обеспечению иска, поскольку непринятие таковых может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда (истцы просят возместить убытки в виде недополученной прибыли в сумме 28 млн руб.), руководствуясь ст. ст. 133, 134 ГПК РСФСР, определил: как меру по обеспечению иска запретить ответчику публиковать статьи, касающиеся предмета данного иска, содержащие какую-либо информацию об ООО «СВ-Сатурн», его деятельности и руководителях». Словом, судья запретил «появление вредоносных фактов». В обеспечение суммы убытков в 28 млн руб. суд запретил какие-либо публикации об истцах. Категория «моральный вред» оказалась не такой простой, как могло показаться с первого взгляда, здесь очень много тупиковых направлений.
Компенсация «возмещение морального вреда» нашла в конце XIX – начале XX века особо активных сторонников в Италии. Беляцкин пишет, что «в Италии юриспруденция постоянно высказывается за возмещение морального вреда, и ежедневный опыт представляет нам случаи денежного вознаграждения при диффамации, развращении малолетних, прелюбодеянии. Деяние, затрагивающее чужую честь, не только ухудшает положение обиженного, не только способствует этим путем прямому уменьшению его экономического благосостояния, но и оскорбляет притязание, которое вправе иметь каждый гражданин на сохранение для себя тех удовольствий высшего порядка, которые делают жизнь приятной и счастливой, каковы покой, безмятежность души, домашний и семейный мир». При присуждении вознаграждения за нравственный вред итальянские суды не ставят во главу угла исследование внутренних мотивов, побуждающих истца требовать оценки на деньги своей чести. «Не может и не должен судья перестраивать психологию тяжущихся, он должен считаться только с важным интересом, и где таковой есть, признавать право. Кассационный суд в Палермо признает за женщиной, хотя и взрослой, соблазненной мужчиной, путем обещания жениться или без такового обещания, право на иск о возмещении вреда, несмотря на ненаказуемость такого деяния по уголовному закону, так как подобная женщина не только терпит материальный урон, но «теряет честь и будущность».
При рассмотрении иска о компенсации морального вреда присутствует элемент расширения полномочий суда, поскольку размер присуждаемого вознаграждения за нравственный вред зависит не от предустановленных критериев, а исключительно от свободного усмотрения суда.
Горячий сторонник института возмещения морального вреда С. А. Беляцкин оппонирует своим противникам и приводит яркие примеры необходимости компенсации нравственных страданий. «В то время как имущественные интересы хорошо ли, худо ли, но ограждаются от посягательств воздействием суда на каждое нарушение и угрозой платежа убытков, личные права, т. е. наиболее драгоценные для человека, почти совершенно не ограждены от нарушений, если пострадавший не желает либо не может прибегнуть к помощи уголовных кар или если нарушение не составляет уголовно наказуемого деяния. В нашем законе регламентируются все виды авторского права, которые закон признает и готов защищать. Поскольку в авторском праве заключен элемент экономический, последний встретит самое бережное к себе отношение со стороны суда: путем иска об убытках автор, в случае злоупотребления его произведением, может получить удовлетворение. Напротив, не встретит такой защиты в наших судах личный элемент, являющийся в авторском праве существенным, момент духовной связи автора с его произведением. Некто, получив право издать произведение известного автора, произвольно сокращает и даже переделывает, по своему усмотрению, многие места, ставя тем автора в самое смешное положение. Редактор нескольких периодических изданий, приняв статью для напечатания в одном издании, поместил ее умышленно в другом, неприятном автору, сопроводил ее обидными комментариями и вообще сделал из нее ненадлежащее употребление, публично издеваясь над автором. Автор может испытывать «миллион терзаний», но в иске о возмещении вреда ему откажут, за отсутствием экономического ущерба».
С. А. Беляцкин приводит, на наш взгляд, показательный пример, который имеет аналог в нынешнее время. «Мать желает получить вознаграждение с железной дороги за то, что маленький сын ее был изрезан в куски промчавшимся поездом, везде ей заявляют: «сына мы вам вернуть не можем». Но разве требование потерпевшей матери можно сравнить с желанием воскресить сына? Разве не вправе она домогаться вознаграждения за причиненные ей страдания? Безвозвратна потеря сына, бесценна утрата, но полученные деньги дадут хоть что-нибудь. Полученные деньги мать, лишенная сына, в состоянии будет потратить на воспитание второго малолетнего ребенка и тем доставит себе возможное удовлетворение и облегчение».
В газете «Электрон-ТВ» (Крымский район) в № 46 за 12–18 ноября 2001 г. была опубликована статья «Ничто не сулило беды», в которой рассказывалось о самоубийстве подростка. Автор избрала для своего материала метод блокового построения. Статья состояла из блоков: Факты, Свидетельства, Слухи, Мнения. В блоке Слухи «нелигитимные» и неприятные для семьи повесившегося мальчика «сведения» были изложены предельно лаконично. Затем они опровергались в блоке Мнения.
Есть смысл процитировать эти блоки.
«Слухи: «Не стану называть людей, из чьих уст я услышала, на мой взгляд, домыслы. В той или иной вариации их рассказы звучали так:
Юра очень жестокий человек. Сын-то ему не родной. Он его усыновил в двухлетнем возрасте, а потому он его и не жалел…
Они заставляли мальчишку работать непосильно. То с отцом ходил на работу, то с матерью. Даже в тот день, когда случилась эта беда, он был с Людой на «шабашке». У него не было нормального детства…
Конечно, семья вроде нормальная. Но бил Юрка сына нещадно…
Это он из-за учительницы по русскому языку сделал. Она его не любила и жаловалась на него отцу. А тот избивал Валентина…
Ни при чем семья и учителя. У этого парнишки что-то с психикой было не в порядке. Он всегда был какой-то затравленный, хмурый. Я никогда не видел, чтобы он не то что смеялся, а даже улыбался».
Во Мнениях директор школы, мать одноклассника и психиатр опровергают слухи, реабилитируют семью. Однако такая конструкция – мнения после слухов – не спасает автора от искового заявления родителей о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда.
Истцы изложили в исковом заявлении блок «Слухи», а затем аргументацию того, к каким последствиям привело распространение слухов: «у нас в селе многие выписывают газету «Электрон-ТВ», т. к. там напечатана телевизионная программа, поэтому люди, которые нас плохо знают, стали относиться к нам с подозрением, судачить о нас на всех перекрестках, перемывать наши косточки. Наша младшая дочь Настя, которая ходит в 7-й класс, сразу же почувствовала отчуждение ее одноклассников, т. к. запретить говорить кому-либо о нас плохое, тем более детям, никто не может, тем более они в любой момент могут сослаться на газету.
Я со своим мужем считаю, что публиковать порочащие нас сведения, не называя источник информации, газета не имела право. Поскольку порочащие сведения были опубликованы в средствах массовой информации, мы имеем право требовать, чтобы эти сведения были опровергнуты тем же средством массовой информации. Кроме того, мы имеем право требовать возмещения компенсации за моральный вред, который я оцениваю в 15 тыс. рублей. При этом необходимо учесть, что у меня на руках имеются двое малолетних детей, младшему недавно исполнилось три годика, а поскольку я постоянно плачу, нервы у меня в конец расшатаны, я не могу уделять ему должного внимания».
Парадоксальным элементом в данном судебном деле является то, что автор статьи, пользуясь своим правом, целенаправленно собирала слухи и распространила их через газету. Доказывать соответствие/несоответствие слухов вообще не представляется возможным, поскольку автор тогда должна была бы раскрыть источник информации и доказывать их соответствие, чтобы выиграть процесс. Но тогда были бы нелогичными последующие части публикации, где эти слухи опровергаются. Поэтому суд принял решение о публикации опровержения именно блока Слухи как основополагающего. «Рассмотрение и разрешение судами дел этой категории, особенно тех из них, когда после вынесения решения последовала публикация в печати опровержения в случае удовлетворения иска, несомненно, имеет большое превентивное, общественно-нравственное значение. Решениями об опровержении порочащих сведений суды призваны пресекать распространение таких сведений, защищая доброе имя граждан, положительную деловую репутацию граждан» (265, 148).
Авторы монографии «Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ личности» К. И. Голубев и С. В. Нарижний утверждают, что «под благом в широком смысле можно понимать все, что является в той либо иной степени полезным для человека с его точки зрения».
У В. Даля благо трактуется как «добро, все доброе, полезное, служащее к нашему счастью» (96, 90).
Природа благ дихотомична, т. е. разбита на пары (от греч. dichotomia – разделение надвое). Материальные (имущественные) и нематериальные (неимущественные) блага. Здесь речь идет об отношении субъекта, т. е. человека к объекту – предмету, представляющему собой материальную или нематериальную ценность.
Отношения к вещественному типу благ достаточно хорошо изучены и исследованы.
Поскольку моральный вред как категория, не выраженная в физических, материальных единицах, имеет в своем составе терминологическую единицу «мораль», означающую совокупность представлений об идеале, добре и зле, справедливости/несправедливости, то и категория «моральный вред» по большей части относится к области защиты неимущественных благ. Хотя, следует отметить, что строгой, дефинициарно отмеченной границы между благами, имеющими вещественное содержание и нематериальными, не существует.
Нематериальные блага характеризуются рядом существенных признаков.
Во-первых, это индивидуализация образа, т.е. неотделимость от личности конкретного человека.
Во-вторых, принадлежность неимущественных прав и нематериальных благ конкретному человеку от рождения и в силу закона.
В-третьих, неотчуждаемость и непередаваемость этих прав.
В-четвертых, невещественный характер, отсутствие материальных свойств.
В-пятых, неэкономический характер этих благ.
Законодатель не распределяет дефиниции «нематериальные блага» и «неимущественные блага». В лексическом пространстве использование термина «нематериальные блага» в значении «неимущественные блага» можно считать корректными, но в семантическом поле наличествует противоречие, т. к. «в данном варианте отсутствует термин для неимущественных, но вещественных благ, таких как здоровье и целостность организма» справедливо замечают К. И. Голубев и С. В. Нарижний.
Нематериальные блага законодатель определяет в следующей последовательности:
1) жизнь и здоровье;
2) достоинство личности;
3) личная неприкосновенность;
4) честь и доброе имя;
5) деловая репутация;
6) неприкосновенность частной жизни;
7) личная и семейная тайна;
8) право свободного передвижения;
9) право выбора места пребывания и жительства;
10) право на имя;
11) право авторства;
12) иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом.
Таким образом, получается, что в систему «нематериальные блага» входит система «неимущественные права». «Права» и «блага» соединены в одной плоскости, что юридически некорректно, к тому же многие права остались за пределами этого поля. В частности, право на врачебную, банковскую, адвокатскую тайны; право на тайну усыновления (удочерения); право на тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений; на неприкосновенность жилища; неимущественные права в системе авторского права – авторское право, патентное право, право на товарный знак.
В общем перечне нематериальных благ и неимущественных прав есть категория «деловая репутация», юридическая семантика которой несколько размыта. Сам термин «репутация» в русском языке стал применяться еще при Петре I и вошел в русский язык через польский (reputacja) из латинского языка (reputatio) – обдумывание, созерцание (273, 473).
Словарь иностранных слов, с той же латинской основой (reputatio – обдумывание, размышление), дает толкование термина как – создавшееся общее мнение о чьих-либо достоинствах или недостатках.
В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой репутация определяется как «приобретаемая кем-чем-нибудь общественная оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-чего-нибудь. Хорошая, плохая репутация. Незапятнанная репутация. Порочить чью-нибудь репутацию».
Сочетание «репутации» с прилагательным «деловая» вызывает недоумение о нелогичности подобного соединения, поскольку «деловой» есть «относящийся к общественной, служебной деятельности, к работе» (195, 159). К нематериальным благам отнесена «деловая репутация», а не репутация как таковая, что свидетельствует об их правовом различии. По мнению профессора К. Б. Ярошенко, комментировавшего главу 8 «Нематериальные блага и их защита» Гражданского кодекса РФ, «деловая репутация – это оценка профессиональных качеств гражданина или юридического лица». А отсюда следует, поскольку в основе данной дефиниции лежит квалификатор «оценка», что и «честь», и «деловая репутация» суть понятия одноплановые, ведь «честь есть объективная оценка гражданина окружающими».
Председатель Волгоградского областного суда доктор юридических наук профессор Сергей Викторович Потапенко, научный интерес которого сконцентрирован на проблеме диффамации, советует журналистам в книге «Европейский суд по правам человека и защита свободы слова в России: прецеденты, анализ, рекомендации» никогда не использовать в публикациях фактические данные, содержащиеся в не вступивших в законную силу судебных решениях и приговорах. «Можно без опасения быть втянутым в диффамационный судебный спор, сообщив только о самом факте вынесения решения или приговоре с оговоркой, что эти судебные постановления еще не вступили в законную силу». В противном случае при отмене приговора, решения вполне возможен иск потерпевшей стороны о защите чести и достоинства. И можно с уверенностью предсказать печальный для редакции и журналиста результат с публикацией опровержения и выплатой компенсации морального вреда.
В этой книге нет заключения, да и быть его не может. Причина этого проста – тема находится в постоянном движении и развитии. Уже много веков лучшие умы человечества пытаются найти оптимальные варианты, но пока безуспешно. Поскольку здесь присутствует вечный конфликт Слова со Словом. Поэтому многие проблемы приходится решать «исходя из внутреннего убеждения». Вопрос только в том, каково это «внутреннее убеждение» у судьи и журналиста.
Библиографический список
1..... Алексеева Н. Г. Психологический тип личности и многоуровневое темарематическое структурирование текста. Вестник СпбГУ, сер. 2, 1994. Вып. 4 (23).
2..... Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии, № 2, 1989.
3..... Анисимов А. Система цивилизационных кодов и глобальная динамика // Россия XXI, № 1–2, 1996.
4..... Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая защита. – М.: Юристъ, 1994.
5..... Анисимова Е. Е. Паралингвистика и текст (к проблеме креализованных и гибридных текстов) // Вопросы языкознания, № 1, 1992.
6..... Арутюнова Н. Д. Речеповеденческие акты и истинность //Человеческий фактор в языке: коммуникация, модальность, дейксис. М.: Наука, 1992.
7..... Арутюнова Н. Д. Истина и этика // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
8..... Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999–I–XV.
9..... Арутюнова Н. Д. Истина: фон и коннотация // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
10. ... Актуальные проблемы права СМИ. Материалы Первой российско-американской конференции / Под ред. Г. В. Винокурова, А. Г. Рихтера, В. В. Чернышова. – М.: Право и СМИ, 1997.
11. ... Аристотель. Сочинения: В 4-х т. / Пер. с древнегреч.; общ. ред. А. И. Доватура. – М.: Мысль, 1984.
12. ... Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. – М.: ВЛАДОС, 1994.
13. ... Аврамов Д. С. О профессиональной этике журналиста / Вопросы философии, 1990, № 5.
14..... Аббаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни. Пер. с итал. А. Л. Зорина. СПб.: изд-во «Алетейл», 1997.
15..... Адлер А. О нервическом характере. Под ред. Э. В. Соколова / Пер. с нем. И. В. Стефанович. СПб.: Университетская книга, 1997.
16..... Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1995.
17. ... Андреевский С. А. Дело графа Милевского // Судебные речи известных русских юристов. М., 1985.
18..... Александров П. А. Дело Нотовича // Судебные речи известных русских юристов. М., 1985.
19..... Алексеев С. С. Субъекты гражданского права. М., 1989.
20..... Батурин Ю. Защита чести и достоинства по российскому праву: ситуативная матрица // Законодательство и практика СМИ. М., 1997. Вып. 12 (40).
21. ... Банфи А. Философия искусства / Предисл. К. М. Долгова; пер. с итал. Г. П. Смирнова. – М.: Искусство, 1989.
22..... Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Идиоматичность и идиомы // Вопросы языкознания, 1996, № 5.
23..... Бродский Б. Принцип избирательности в когнитивных системах // «Общественные науки и современность», 1998, № 5.
24..... Бельчиков Ю. А. Стилистика и культура речи // Русская словесность, 1998, № 12.
25. ... Бойков А. Д. Гласность и правосудие // Гласность и правосудие, 1989, № 8.
26. ... Брес И. Психоанализ и психология // Вопросы философии, 1993, № 12.
27. .. Бертран М. Бессознательное в работе мысли // Вопросы философии, 1993, № 3.
28. ... Бондарко А. В. Теория инвариантности P. O. Якобсона и вопрос об общих значениях грамматических форм // Вопросы языкознания, 1996, № 4.
29. ... Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
30. ... Бахтин М. М. Проблемы текста // Вопросы литературы, 1976, № 10.
31. ... Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
32. ... Бердяев Н. А. Истина и откровение. Пролегомены и критика Откровения / Сост. и послесл. В. Г. Безносова, прим. Е. В. Бронниковой. – СПб.: РХГИ, 1996.
33. ... Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопросы языкознания, 1990, № 2.
34. ... Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Кошкова. М.: изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994.
35. ... Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978. Вып. 8.
36. ... Брудный А. А. Психологическая герменевтика. Уч. пособие. – М.: изд-во «Лабиринт», 1998.
37. ... Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1998.
38. ... Баранов А. Г. Потенциал метаязыковой интерпретации // Природа. Общество. Человек, 1996, № 2–3 (5–6).
39. ... Бауман З. Философия и постмодернистская социология / Вопросы философии, 1993, № 3.
40. ... Бергсон А. Два источника морали и религии. / Пер. с фр., послесл. и прим. А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1994.
41. ... Буров А. А. Словосочетание как «фокус» пересечения номинации коммуникации в тексте // Лингвистика текста. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. Пятигорск. 1995.
42. ... Буянова Л. Ю. Метаязыковый аспект окказиональной деривации в языке публицистики. Краснодар, 1999.
43. ... Буянова Л. Ю. Языковая личность как текст: жизнь языка и язык жизни (Языковая личность: экспликация, восприятие и воздействие языка и речи: Монография. – Краснодар, 1999.
44. ... Бачинин В. А. Философия преступления: конспект лекций. СПб.: изд-во Михайлова В. А., 2000.
45. ... Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Брюссель, 1973.
46. ... Бессонов А. В. Фрегевская концептуализация логико-семантической теории / Концептуализация и смысл. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990.
47. ... Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 2. Пер. с итал. – М., Международные отношения, 1990.
48. ... Блинков В. Неизвестная война // Новая Польша. 1999, № 2.
49. ... Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Энциклопедический словарь, t.XXXV–XXXVII. СПб., 1901–1902.
50. ... Букреев В. И., Римская И. Н. Этика права. От истоков этики и права к мировоззрению: Уч. пособие. – М.: Юрайт, 1998.
51. ... Брайант А. Т. Зулусский народ до прихода европейцев. М., 1953.
52. ... Безлипкин Б. Т. Судебная защита чести и достоинства граждан в охранительных отношениях // Правоведение. 1990, Л/Ч.
53. ... Блюмкин В. А. Честь, достоинство, гордость. М, 190З.
54. ... Бахтин М. М. Человек в мире слова / Сост., предисл., прим. О. Е. Осовского. – М.: изд-во Российского открытого ун-та, 1995.
55. ... Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая российская энциклопедия, 1998.
56. ... Вайнрих X. Лингвистика лжи. Язык и моделирование социального воздействия. М., 1987.
57. ... Василюк Ф. Е. Структура образа // Вопросы психологии, 1993, № 5.
58. ... Вершин А. П. Деформация судебной защиты гражданских прав и интересов в конце 20-х – начале 30-х годов // «Советское государство и право», 1989, № 8.
59. ... Венгеров А. Синергетика и политика // «Общественные науки и современность», 1993, № 4.
60. ... Варьяс М. Религиозная мораль и политико-правовая действительность: теологический аспект // «Общественные науки и современность», 1993, № 5.
61. ... Войтыла Кароль (папа римский Иоанн-Павел II) Основание этики // Вопросы философии, 1991, № 1.
62. ... Вельдер Р. К вопросу о феномене подсознательной культуры. // «Общественные науки и современность», 1993, № 5.
63. ... Витгенштейн Л. О достоверности // Вопросы философии, 1991, № 2.
64. ... Воронина О. А. Гендерная экспертиза законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации. М.: МЦГИ / Проект тендерная экспертиза, 1998.
65. ... Вежбицка А. Семантические универсалии и описание языков. Пер. с англ. А. Д. Шмелева, под ред. Т. В. Булыгиной. – М.: Языки русской культуры, 1999.
66. ... Ворожбитова А. А. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты / Автореферат на соискание уч. степ. док. фил. наук. Краснодар, 2000.
67. ... Фон Вригт Г. Х. Логико-философские исследования / Пер. с англ. М., 1986.
68. ... Вандерлет Р. Американское диффамационное право и судопроизводство // Законодательство и практика СМИ, 1995, № 1.
69. ... Венгеров А. Судебная палата в информационной революции // Законодательство и практика СМИ, 1996, № 11.
70. ... Воинов А. Юридический аспект проблемы защиты чести и достоинства: теория и практика // Законодательство и практика СМИ, 1997, № 1.
71. ... Воронина Л. А. Основные эстетические категории Аристотеля. М., 1975.
72..... Вендлер З. Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. М., 1985.
73. ... Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978. Вып. 8.
74. ... Вежбицка А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1985. Вып. XVI.
75. ... Васильев С. А. Уровни понимания текста / В кн. «Понимание как логико-гносеологические проблемы. Киев, 1982.
76. .... Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1996.
77. ... Вебер М. Избранное. Образ общества.: Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994.
78. ... Верч Дж. Голоса разума. Социокультурный подход к опосредованному действию. – М.: Тривола, 1996.
79. ... Ганзен В. А. Контроль и самоконтроль в процессе работы с текстом // Вестник СПб ГУ, Сер. 6. 1994. Вып. 1 (№ 6).
80..... Гак В. Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.
81. ... Гуревич В. В. О «субъективном» компоненте языковой семантики // Вопросы языкознания, 1998, № 1.
82. ... Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: изд-во «Искусство», 1972.
83..... Гудков Л., Дубин Б. Конец харизматической эпохи // Свободная мысль, 1993, № 5.
84. ... Гусейнов Г. Ч. Ложь как состояние сознания // Вопросы философии, 1989, № 11.
85. ... Габричевский А. Г. Пространство и время // Вопросы философии, 1994, № 3.
86. ... Гиренок Ф. Патология русского ума. Картография дословности. – М.: Аграф, 1998.
87. ... Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Книга о хорошей речи. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997.
88. ... Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.
89. ... Грушевская Г. М. Текстовая деятельность в структуре социально-политического общения // Природа. Общество. Человек. 1996. № 2 (5–6).
90. ... Гордин А. Я. Дуэли и дуэлянты. Панорама столичной жизни. – СПб.: Пушкинский фонд, 1997.
91. ... Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1992.
92. ... Гоголь Н. В. Повести. – М.: Худож. лит., 1984.
93. ... Гальперин И. Р. О понятии «текст» / Вопросы языкознания, 1974, № 6.
94. ... Гойхман О. Я., Надеина Г. М. Основы речевой коммуникации: Учебник для вузов / Под. ред. проф. О. Я. Гойхмана. – М.: Инфра-М., 1997.
95. . Голицин Г. А. Алгебра эмоций и революция в этике. Эстетика: информационный подход. М.: Смысл, 1997.
96. . Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. – М.: Русский язык, 1978.
97. . Древнегреческо-русский словарь. М., 1958. Т. 1.
98. . Достоевский Ф. М. Нечто о вранье // Дневник писателя. М., 1989.
99. . Деребин А. А. Телевизионные новости как коммуникативное событие // Дискурс, 1998, № 7.
100... Друзья Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2-х томах / Сост., биографические очерки и прим. В. В. Кукина. – М.: Правда, 1986.
101... Доблаев А. П. Логико-психологический анализ текста. Саратов, 1969.
102... Де Боно Э. Латеральное мышление. – СПб.: Питер Паблишинг, 1997.
102... Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия / Пер. с фр., послесл. С. Н. Зенкина. М.: Институт экспериментальной социологии; Спб.: Алетейя, 1998.
103... Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. М: Мысль, 1973.
104... Денисов В. В. Социология насилия (Критика современных буржуазных концепций). М.: Политиздат, 1975.
105... Евреинов Н. История телесных наказаний в России. Репринт изд. – Белгород: Пилигрим, 1994.
106... Жинкин И. И. Механизмы речи. М., 1988.
107... Жинкин Н. И. Избранные труды. Язык–Речь–Творчество. Исследования по семиотике, психолингвистике, поэтике. – М.: Лабиринт, 1998.
108... Зоны бесконфликтности (положение СМИ и свобода слова в некоторых «благополучных» субъектах Российской Федерации). – М.: Права человека, 1998.
110. ... Знаков В. В. Психология понимания правды. CПб.: Алетейя, 1999.
111. . Зарецкая Е. Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации. – М.: Дело, 1998.
112... Залевская А. А. Слово в лексике человека. Психолингвистическое исследование. Изд-во Воронежского ун-та, 1990.
113... Здравосмыслов А. Г. Социология конфликта: Уч. пособие для студентов высших учебных заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 1996.
114... Зеленкова И. Л., Беляева С. В. Этика.: Уч. пособие и практикум. – Мн.: НТООО «Тетра Системс», 1997.
115... Защитительные речи советских адвокатов. М., 1956.
116... История русской адвокатуры. Том первый. Гессен И. В. Адвокатура, общество и государство (1864–1914). Сост. С. Н. Гаврилов. – М.: Юристъ, 1997.
116... Ивин A. A. Основы теории аргументации: Учебник. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.
117... История России. М., 1999.
118... История ВКП(б). Краткий курс. М.: OГИЗ, 1945.
119... Ильин М. В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.: РОСПЭН, 1997.
120... Ишмуратов А. Т. Логический анализ практических рассуждений (формализация психологических понятий. Киев, 1987.
121... Игнатов Н. Г., Мотков С. И. Роль СМИ в процессе формирования общественного мнения / Вестник МГУ. Сер. 10. 1997, № 1.
122... История дипломатии / Под ред. акад. B. П. Потемкина. М.-Л.: ОГИЗ, 1945.
123... Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1956.
124... Кант И. Критика чистого разума. – Симферополь: Реноме, 1998.
125... Культура русской речи. Учебник для вузов / Под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. E. H. Ширяева. М.: изд. группа «Норма-Инфра». М., 1999.
127... Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары / Пер. с англ. – М.: Республика, 1993.
128... Касавин И. Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. – СПб.: РХГИ, 1993.
129... Кони А. Ф. Избранное / Сост., вступ. ст. и прим. Г. М. Миронова и Л. Г. Миронова. – М.: Сов. Россия, 1989.
130... Кузнецов В. Герменевтика и ее путь от конкретной методики до философского направления. «Логос» Философско-литературный журнал. № 10(1993) 20.
131. . Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. – М.: изд-во «Спарк», 1996.
132... Койре А. Философская эволюция Мартини Хайдеггера // «Логос». Философско-лнтературный журнал. № 10 (1993) 20.
133... Камчатов A. M. Подтекст: термин и понятия // Филологические науки, 1988, № 3.
134... Корконосенко С. Г., Ворошилов В. В. Право и этика СМИ: Уч. пособие. – СПб.: СпбГУ, 1999.
135... Комиссарова Л. М. Текст как коммуникативный знак / Человек в свете его коммуникативного существования. Человек. Коммуникация. Текст. – Барнаул, 1997. Вып. 1.
136... Кощей Л. А. Сознание и текст (проблемы бытия сознания) / Человек в свете его коммуникативного существования. Человек. Коммуникация. Текст. – Барнаул, 1997. Вып. 1.
137... Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для cтуд. пo след. «Журналистика» / Ред.-сост. С. К. Корконосенко. – Спб.: Знание, ИВЭСЭП, 2000.
138... Каменская О. Л. Текст и коммуникация. М.: Высшая школа, 1990.
139... Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: изд-во БЕК, 1996. 140... Кампанелла Т. Государство Солнца. М., 1925. 141... Конституция общенародного государства. М., 1978. 142... Каган В. Знак насилия / Index. Досье на цензуру. 1999, № 7–8. 143... Лосев А. Ф. Бытие – имя – космос / Сост. и ред. A. A. Тахо–Годи. – М.: Мысль, 1993. 144... Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство: Женщина преступница и проститутка: Любовь у помешанных: Сб. / Пер. с ит.; худ. обл. М. В. Драко. – М.: ООО «Попурри», 1998. 145... Лютер М. Застольные беседы. Хрестоматия по западноевропейской литературе. Эпоха возражения. М., 1938. 146... Лобанов С. Д. Бытия и реальность, М.: Наука, 1999. 146... Леонтьев A. A. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1999. 147... Лакофф Дж. Когнитивное моделирование. Язык и интеллект. M., 1996. 148... Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике, 1988. Вып. 23. 149... Лотман Ю. М. Структура художественного текста. M., 1970. 150... Лотман Ю. М. Семиотика пространства. Избранные статьи. Т. 1. Таллин: Александра, 1992. 151... Лотман Ю. М. Текст в тексте – труды но знаковым системам. XIV. Тарту, 1981. 152... Лефевр А. Конфликтующие структуры. М., 1973. 153... Личность и социальная сфера: идеологические и психологические аспекты общения / Под ред. О. Т. Мельниковой. М., 1987. 154... Липс Г. Основные вопросы этики. СПб., 1905. 155... Лещак О. Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики. – Тернополь: Підручинки і посібники, 1996. 157... Лисоченко Л. В. Высказывания с имлицитной семантикой (логический, языковой и прагматический аспекты): Монография. – Ростов-на-Дону: изд-во Рост. ун-та, 1992. 158... Лукман Т. Конституирование языка в повседневной жизни. Концептуализация и смысл. – Новосибирск.: Наука. Спб. отд-ние, 1990. 159... Ломинина З. И. Способы моделирования процессов текстовой деятельности / Лексико-семантические проблемы и антропология лингвистики. Москва–Краснодар. 1999. 160... Лухьенбурс Д. Дискурсивный анализ и схематическая структура // Вопросы языкознания. 1990, № 2. 161... Мамай В. Защита чести и достоинства // Российская юстиция, 1995, № 1. 162... Мучник Б. С. Культура письменной речи. М., 1990. 163... Мильнер-Иринин Я. А. Этика или Принципы истинной человечности. – М.: Наука, 1999. 163... Муравьева Н. В. Коммуникативные стратегии журналиста: что такое «непонятный» текст и как сделать его «понятным». – М.: Информ-контакт, 1998. 164... Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуманит. вузов и учащихся лицеев. – 2-е изд., испр. – М., Аспект Пресс, 1996. 165... Мечковская Н. Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманит. вузов. – М.: Агентство «ФАЙР», 1998. 166... Мамардашвили М. Размышление о законе / Index. Досье на цензуру, 1999, № 7–8. 168... Мельчук И. А. Русский язык в модели «смысл–текст». Москва; Вена, 1995. 169... Маковский М. М. Язык–миф–культура. Символы жизни и жизнь символов. М., 1996. 170... Мартыненко К. «Суверенитет или фугас под Союз?» // «Кубань сегодня», 2000, № 111 (994). 171... Мантатов В. В. Проблема текста и его понимания / Логика и язык. Сб. научных трудов. М., 1985. 172... Макаренко В. П. Бюрократия и сталинизм. Изд. Рост. госун-та, 1989. 173... Мухаммад ибн Харис ал-Шушани. Книги о судьях (Китаб ал-Кудат) / Пер. с араб., предисл., прим. и указатели К. А. Бойко. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992. 174... Мегентесов С. А., Голубцов С. А. Эволюция образа Я в картине восприятия мира / Лингвистические и психолингвистические основы изучения сущности. Краснодар, 1997. 175... Молчанова М. Н. Прагматика языка публицистического текста. Монография. Краснодар, 2000. 175... Мансурова В. Д. Инстанция истины (о соотношении норм языка и права в пространстве общественной коммуникации) // Акценты, 1999, № 3–4 (14–15). 176... Москальская О. И. Семантика текста // Вопросы языкознания, 1980, № 6. 177... Майданова Л. М. Структура и композиция газетного текста. Средства выразительного письма. Красноярск.: изд-во Красноярского ун-та, 1987. 178... Мисонжиков Б. Я. Энтропия как особая функция состояния структур в печати. Вестник СпбГУ. Сер. 2. 1994. Вып. 4 (№ 23). 179... Мельник Г. С. Mass Media: Психологические процессы и эффекты. СПб.: изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. 181... Макавчик М. В. Номинация: прямая, метафорическая, символическая / Человек в свете его коммуникативного существования. Человек. Коммуникация. Текст. – Барнаул, 1997. Вып. 1. 182... Монич Ю. В. Проблемы этимологии и семантика ритуализованных действий // Вопросы языкознания, 1998, № 1. 183... Немец Г. П. Прагматика метаязыка. Киев, 1993. 184... Немец Г. П. Семантика метаязыковых субстанций. Монография. М.; Краснодар, 1999. 185... Немец Г. П. Модально-оценочная функция языка в процессе общения (Лингвистические и психолингвистические основы изучения сущностей). Изд-во КубГУ, 1997. 186... Нарушение прав журналистов и прессы на территории СНГ в 1995 году. – М.; Права человека, 1996. 187... Нормативные акты. Практика. Комментарии / Под ред. д.ю.н., проф. А. Б. Венгерова, М.: Право и закон, 1997. 188... Нарский И. С. Западноевропейская философия. XIX в. Уч. пособие. М.: Высшая школа, 1976. 189... Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: Сочинения. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: изд-во «Фолио», 1997. 190... Новиков А. И. История русской философии Х–ХХ веков. СПб.: изд-во «Лань», 1998. 191... Онтология языка как общественного явления. М., 1995. 192... Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студентов вузов по спец. «журналистика» / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Знания СПб ИВЭСЭП, 2000. 193... Осипов И. Д. Философия права: конспект лекций. – СПб.: изд-во Михайлова В. А., 2000. 194... Осташевский А. В. Защита чести и достоинства: Конфликт языка и смысла // Материалы региональной научно-практической конференции судей и журналистов Краснодарского края. Краснодар, 1999. 195... Ожегов С. И. Словарь русского языка. M., 1970. 196... Островский А. Н. Горячее сердце. М.-Л.: Искусство, 1950. 197... Остин Дж. Значение слова. Аналитическая философия: избранные статьи / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ф. Грязнова. – М.: изд-во МГУ, 1993. 198... Немец Г. П., Тхорик Е. Б. Синтагма и парадигма прагматики моральных отношений / Синтактика. Прагматика. Межвузовский международный сборник научных трудов. Патры –Краснодар, 1990. 199... О свободе средств массовой информации и ответственности журналистов. Рекомендации № 3 (7) от 15 июня 1995 г. (Судебная палата по информационным спорам при Президенте Российской Федерации), 1994–1995. 200... Орланди Э. Пульчинелли. К вопросу о методе и объеме анализа дискурса / Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса: Пер. с фр. и португ. / Общ. ред. и вступ. ст. П. Серио; предисл. Ю. С. Степанова. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. 201... Отье-Ревю Ж. Явная и конститутивная неоднородность: к проблеме другого в дискурсе / Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса: Пер. с фр. и португ. / Общ. ред. и вступ. сл. П. Серио; предисл. Ю. С. Степанова. ОАО ИГ «Прогресс», 1999. 201... Переверзев К. В. Семантика каузации на фоне лексической и пропозициональной генетологии // Вопросы языкознания. 1996, № 5. 202... Пищальникова В. А. Схемы понимания: операциональные возможности и сфера применения // Человек в свете его коммуникативного существования. Человек. Коммуникация. Текст. – Барнаул, 1997. 203... Понятия чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации. М.: Права человека, 1997. 204... Пресса не территории России: конфликты и правонарушения. 1996. – М.: Права человека, 1997. 205... Пословицы. Поговорки. Загадки. Сост., авт. предисл. и коммент. А. Н. Мартынова, В. В. Митрофанова. – М.: Современник, I960. 206... Портнов А. Н. Философия Г. Г. Шпата: внутренняя форма, смысл, знак / Альманах русской философии и культуры. Изд. СпбГУ, 1995. 207... Преступная толпа. – М.: Институт психологии РАН. Изд. «КСП+», 1998. 208... Пригожий А. И. Перестройка: переходные процессы и механизмы. М., 1990. 209... Пять лет власти Советов. Изд. ВЦИК. Москва–Кремль, 1922. 210... Потапенко С. В., Осташевский А. В. Диффамация в СМИ: проблемы права и журналистики. Краснодар, 2001. 211... Петренко В. Ф. Психосемантика сознания. М., 1988. 212... Прохоров Е. Цензура отменена – контроль не нужен? // Законодательство и практика СМИ, 1997. 213... Пронина М. Г., Романович А. Н. Защита чести и достоинства граждан. М., 1976. 214... Победоносцев К. П. pro et contra / Вступ. ст., сост. и прим. С. Л. Фирсова. – СПб.: РХГИ, 1996. 215... Потебня А. А. Мысль и язык. Харьков, 1982. 215... Пеше М. Контент-анализ теория дискурса / Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. Пер. с фр. и португ.; общ. ред. и вступ. ст. П. Серно; предисл. Ю. С. Степанова. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. 216... Ратцель. Народоведение. СПб., 1995. 217... Ралей В. Ложь. Хрестоматия по западноевропейской литературе. Эпоха Возрождения. М., 1938. 218... Рассел Р. Человеческое познание. Его сфера и границы / Пер. с англ. М.: Иностранная литература, 1998. 219... Ришар Ж. Ментальная активность. Понимание, рассуждение, нахождение решений. М., 1998. 220... Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1976. 221... Российское законодательство X–XX веков. В 10 томах. М., 1984–1991. 222... Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: изд-во Новосибирского ун-та, 1995. 223... Рузин И. Г. Возможности и пределы концептуального объяснения языковых фактов // Вопросы языкознания. 1990, № 5. 224... Pronobis W. Polska i świat w XX wieku. Warszawa, 1995. 225... Рощин C. K. Журналистика и психология. M., 1989. 226... Радищев А. Путешествие из Петербурга в Москву. М., 1980. 227... Рикер П. Человек как предмет философии // Вопросы философии, 1989, № 2. 228... Руденко Д. И. Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры // Вопросы языкознания, 1992, № 6 231... Серль Дж. Классификация иллокутивных актов / Зарубежная лингвистика. II: Пер. с англ. / Общ. ред. В. А. Звягинцева, Б. А. Успенского, Б. Ю. Городецкого. – М.: изд. группа «Прогресс», 1999. 232. . Сергеев А. П. Право на защиту репутации. Л., 1982. 233... Смолярчук В. И. Анатолий Федорович Кони. М., 1981. 234... Речи известных русских юристов. М., 1997. 235... Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. Соб. соч. в 10 томах. Изд-во «Правда», 1988. 236... Словарь иностранных слов. М., 1949. 237... Смирнова Е. Д. Логика и философия. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭП), 1996. 238... Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 239... Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. – М.: Языки русской культуры, 1998. 240... Социология журналистики: Очерки методологии и практики: Пособие для студентов вузов по специальности «журналистика» / Под ред. С. Г. Корконосенко. – М.: ООО «Гендальф», 1998. 241... Суссман Л. «Эпидемия» законов о прессе: год ограничений. Судьи и журналисты в странах Восточной Европы в период перехода к демократии. Киев, 1997. 242... Сергеич П. (Прохоровщиков П. C.) Искусство речи на суде. – Тула: Автограф, 1999. 243... Судаков А. К. Абсолют нам нравственность: этика автономии и безусловный закон. М.: Эдиториал УРСС, 1998. 244... Судьи и журналисты в странах Восточной Европы в период перехода к демократии. Киев, 1997. 245... Соссюр Ф. Курс обшей лингвистики / Пер. A. M. Сухотина; науч. реф. пер. предмет.и прим. – М. А. Слюсаревой, послесл. Р. Энглера (пер. с фр. – Б. П. Нарумов). М.: изд-во «Логос», 1998. 246... Судебные ораторы Франции ХIХ века. Речи в политических и уголовных процессах. М.: изд-во Института международных отношений, 1959. 246... Средства массовой информации и судебная власть в России (Проблемы взаимодействия). – М.: Галерия, 1999. 247... Судебная реформа: проблемы анализа и освещения. Дискуссии о правовой журналистике. М., 1996. 248... Сталин И. В. Речь на XVII съезде ВКП(б). М.: Политиздат, 1951. 249.... Собкин B. C., Шмелева А. Г. Психоаналитические исследования социально-ролевых стереотипов. Вопросы психологии, 1986, № 3. 250... Стремякова И. Честь и достоинство – категории марксистской этики // Категории марксистской этики. М., 1965. 252... Стыпула Р., Ковалева Г. Польско-русский словарь. Москва–Варшава: изд-во «Русский язык», 1995. 253... Сиверц ван Рейзема Я. В. Философия планетаризма. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1995. 254... Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс / Пер. с англ. – М.: изд. центр «Академия», 1996. 255... Секст Эмпирик. Сочинения в 2-х томах. Вступ. ст. и пер. с древнегреч. А. Ф. Лосева. М.: Мысль, 1975. 256... Соболева Е. Г. Моральность текст в СМИ // Журналистика в 1998 г. Тезисы научно-практической конференции. М., 1999. 257... Серио П. О языке власти: критический анализ // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков: изд-во «Око», 1993. 258... Стюфляева Ч. И. «Вещи, чреватые словом» (Предметные подробности в аналитических текстах). Акцент, 1998, № З–4. 259... Тарасова И. П. Структура смысла и структура личности коммуниканта // Вопросы языкознания, 1992, № 4. 260... Тарланов З. К. Методы и принципы лингвистического анализа. Петрозаводск, 1995. 261... Твардовский К. Логико-философские и психологические исследования. М., 1997. 261... Тихомирова Л. В., Тихомиров M. Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1998. 262... Тихомиров О. А. Структура мыслительной деятельности человека. М., 1969. 263... Трубников П. Я. Защита гражданских прав в суде. М., 1990. 264... Трубников П. Я. Судебные разбирательства гражданских дел отдельных категорий. М., 1996. 265... Тертычный А. А. Аналитическая журналистика: познавательно-психологический подход. – М.: Гельфанд, 1998. 266... Тихонравов Ю. В. Основы философии права. Уч. пособие. – М.: Вестник, 1997. 267... Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 268... Тураева З. Я. Лингвистика текста. М.: Просвещение, 1986. 270... Уайтхед А. Избранные работы по философии / Пер. с англ., сост. М. Т. Касавин; общ. ред. и вступ. ст. М. А. Кисселя. – М.: Прогресс, 1990. 271... Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М., 1956. 272... Успенский Г. И. Обилие «дела». Собр. соч. Т. 5. М., 1956. 273... Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и ред. О. Н. Трубачева. – М.: Прогресс, 1986. 274... Федоренко Е. Г. Основы марксистско-ленинской этики. Киев, 1965. 275... Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. – М.: Аграф, 1998. 276... Фуко Мишель. Жизнь: опыт и наука // Вопросы философии. 1993, № 5. 277... Фуко Мишель. Археология знания / Пер. с фр.; общ. ред. С. Левченко. – К.: Ника-Центр, 1996. 278... Феофанов Ю. О власти и праве: Публицистические этюды. – М.: Юрид. лит., 1989. 278... Философия культуры. Становление и развитие. – СПб.: изд-во «Лань», 1998. 279... Фукуяма Ф. Конец истории? / Философия истории: Антология: Уч. пособие для студентов гуманит. вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Ю. А. Килякова. – М.: Аспект-Пресс, 1995. 281... Фрумкина P. M. О прозрачности естественного языка // Язык и структура знаний. М., 1990. 282... Фреге Г. Смысл и денотат. Семиотика и информатика. М., 1997. Вып. 35. 283... Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии, 1989, № 2. 284... Хазагеров Т. Г. Клевета и оскорбление как феномены, изучаемые правоведением и лингвистикой / Речевое воздействие в текстах разной функциональной направленности. Ростов-на-Дону, 1996. 285... Хэар P. M. Дескрипция и оценка // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XVI. 286... Чельцов-Бебутов М. А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб.: Равена, Альфа, 1995. 287... Чичканов А. Б. Объективная истина и состязательность в уголовном судопроизводстве // Вестник СпбГУ. Сер. 6. 1995. Вып. 4 (№ 27). 288... Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. М.: Юристъ, 1995. 289... Черниловский З. М. Ложь и приблизительность в жизни права // Советское государство и право, 1987, № 4. 290... Чуев Ф. 140 бесед с Молотовым: из дневника Ф. Чуева. – М.: Teppa, 1991. 291... Чосер Д. Кентерберийские рассказы / Пер. с англ. И. Кашкина и О. Румера; вступ. ст. и прим. И. Кашкина, М.: Правда, 1988. 292... Черданцева Р. З. Язык и его образы. М., 1977. 292... Шептал В. И. Семиотика политического дискурса: Монография. Волгоград, 2000. 293... Шостак М. И. Журналист и его произведение: Практическое пособие. – М.: ТОО «Гендальф», 1998. 294... Шютц А. Здравый смысл и научная интерпретация человеческой деятельности. Вестник СпбГУ. Сер. 6. Вып. 4 (№ 27), 1994. 295... Шаркова И. Г. Мировой судья в дореволюционной России / Государство и право, 1998, № 9. 296... Шлик М. О. О фундаменте познания. Аналитическая философия: Избранные тексты / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ф. Грязнова. – М.: изд-во МГУ, 1993. 297... Щапов Я. И. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI–XIV вв. М., 1949. 298... Шварц Г. Судьи и журналисты в странах Восточной Европы в период перехода к демократии. Киев, 1997. 299... Экман П. Психология лжи. – Спб.: Литер, 2000. 300... Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – ТОО ТК «Петрополис», 1998. 301... Эпштейн М. Н. Идеология и язык // Вопросы языкознания. 1991, № 6. 302... Эренбург И. Г. Собр. соч. в 8 т. Т. 3. Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца (Сост., подгот. текста И. Эренбург; коммент. Б. Фрезинского. М.: Худож. лит., 1991. 303... Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2-е изд. М.: Большая российская энциклопедия, 1998. 304... Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-е изд. / Пер. с нем. – М.: Республика, 1994. 305... Яблонский Ю. Ю. Молодость метаязыковой субстанциональности правовой лексики. – Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД РФ, 1997. 307. Якобсон P. O. Речевая коммуникация // Избранные работы. М., 1985.Оставить комментарий
Презентации
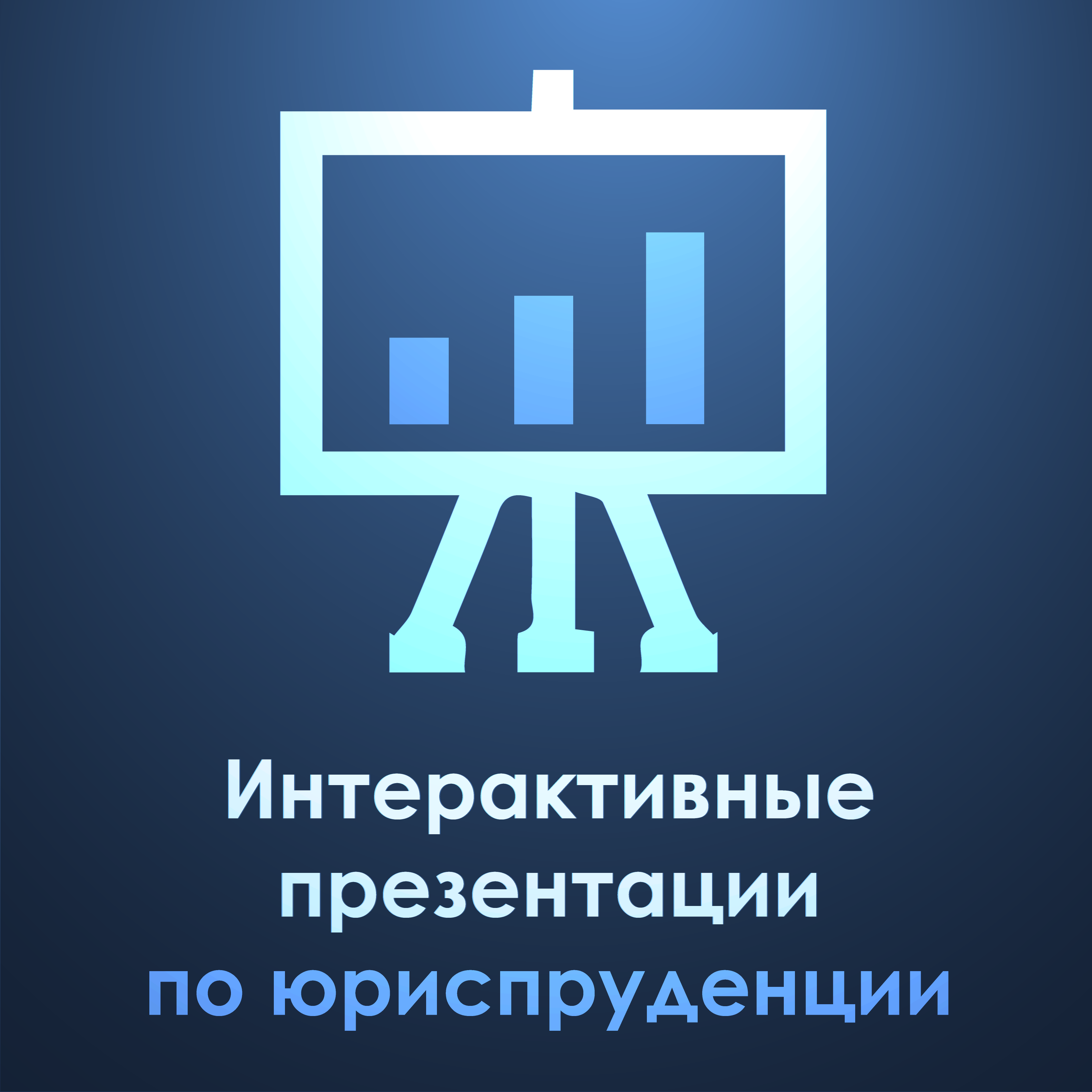
Журнал

О проекте

Новости
• за сегодня •
• за вчера •
Новое
в трибуне
Новое в
разделе Наука
Юридическая
консультация
Вопрос:
Ответ:
Споры о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в арбитражных судах.